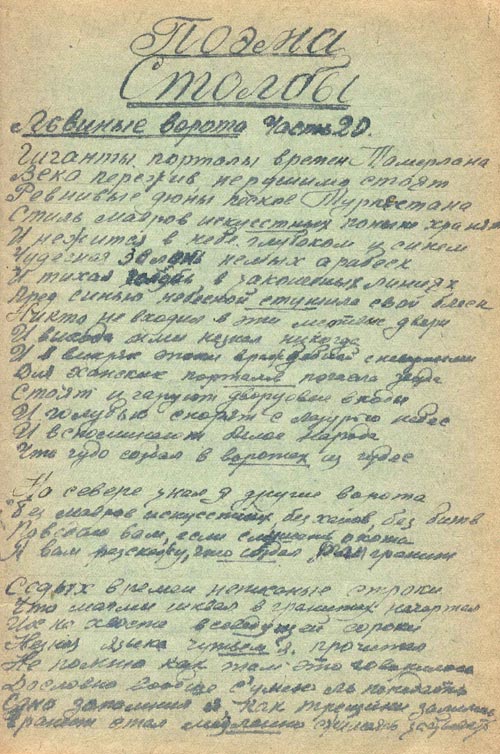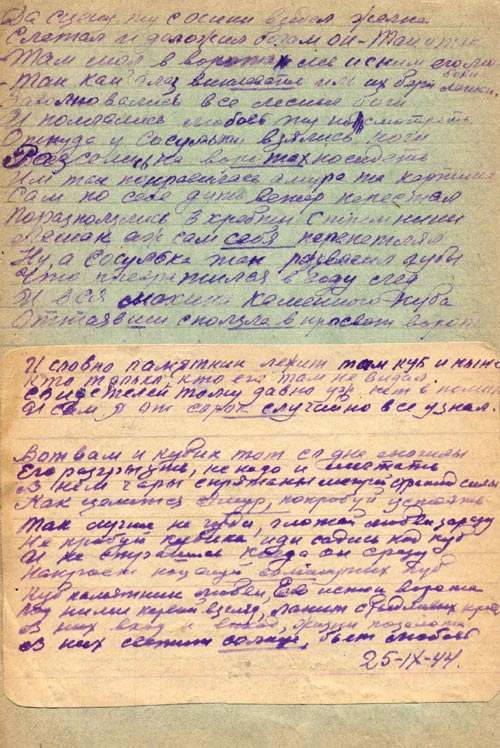Столбы. Поэма. Часть 20. Львиные ворота

Гиганты порталы времен Тамерлана
Века пережив нерушимо стоят,
Ревнивые дюны песков Туркестана
Стиль мавров искусных поныне хранят.
И нежится в небе глубоком и синем
Чудесная зелень немых арабеск,
И тихая голубь в законченных линиях
Пред синью небесной стушила свой блеск.
Никто не входил в эти мертвые двери
И выхода ими не знал никогда,
И в вихрях эпохи враждебной неверным
Для ханских порталов погасла звезда.
Стоят и чаруют дворцовые входы
И голубью спорят с лазурью небес,
И вспоминают былое народа
Что чудо создал в воротах из Чудес.
На севере знал я другие ворота
Без мавров искусных, без ханов, без битв,
Поведаю вам, если слушать охота,
Я вам расскажу, что создал там гранит.
Седых времен неписаные строки,
Что магму шквал в гранитах начертал,
Их на хвосте всеведущей сороки
Не зная языка чутьем я прочитал.
Не помню, как там говорилось
Дословно, вообще сумею ль передать,
Одно запомню я — как трещины залились
Гранит стал медленно сжимаясь застывать.
Потом прошли тысячелетий годы,
Неузнаваем стал предгорий вид,
И по хребтам, в нетронутой природе,
Простерся дейками безкварцевый гранит.
Названье сиенит ему сороки дали,
Он видим был с низин издалека,
Но на него они не залетали —
Верхушка гор казалась высока.
Они внизу в долине Енисея
Как прежде же гнездились в островах
И вили гнезда, прутьев не жалея,
В черемухи прекрасных деревцах.
И знали все, что вкруг происходило,
Все видели, все помнили всегда —
Где у каких зверей какая сила,
Птенцов кто вывел больше из гнезда.
Кто с кем поссорился из за норы, иль пищи,
Кто посчитал чужое за свое,
И даже, что на Енисейском днище
У рыб случалося. Сороки знали все.
Особенно же их интриговало
Как главные живут среди зверей,
И здесь заслуги их немало —
Узнать доподлинно, кто всех зверей сильней.
Вот Мамонт, например, — сыщи виднее зверя,
И рядом с ним двурогий носорог,
Глядишь, глазам своим не веришь,
Как на траве такой вскормиться мог.
Вот — бычий предок — тур, а вот — бизон лобастый,
Пасется по степям, в огромнейших стадах.
Попробуй, подойди. Случалося и часто
Табун топтал волков в стремительных бегах.
А лес таит гигантского оленя,
Сажень между концов слегка сведенных рог,
В высоких липнягах, с всегда прохладной тенью,
Он пасся с туром бок о бок.
И рядом с ними, этими скотами,
Привольно пасшимися в мирных табунах,
В ночной тиши неслышными шагами
К ним крался лев, вселяя в стадо страх.
Но как ни дерзок был тот хищник-одиночка,
К сторожким табунам он все ж не подходил,
Боялся и не смел, и только ночью
Отбившихся преследовал, ловил.
Он больше промышлял на северном олене,
Что ягельник ветвистый поедал,
И преисполнен жвачной ленью
Лежал, жевал, глотал и отрыгал.
Его лев лавливал в лесу вблизи опушки,
Или когда тот шел на водопой.
Здесь, в берегу какой-нибудь речушки,
Он каждый раз доволен был судьбой.
Не раз гонял он косяки лихие,
Несущихся, как ветер, лошадей,
Но быстроногой той стихии
Он много уступал, хоть был сильней.
И надоело все коварной кошке —
Слоны и тур, бизон и носорог,
Олени, лошади, маралы, кабарожки,
И он пошел искать всеведущих сорок.
Чтоб их спросить о ловкости и силе,
Они ведь знают всех, скотов и не скотов,
Когда и где они только не жили,
Включая самых мелких грызунов.
Еще спросить, кто всех зверей вкуснее.
Так пресно все, никак не рассказать.
И здесь внизу, вокруг на Енисее,
Другой, приятной пищи не сыскать.
И долго не пришлось искать ему сороку,
Спустился вниз, прошелся бережком,
И где Бугач впадает в Качу, сбоку
В боярку вплетено гнездо, закрытое как дом.
Как раз сороки были дома,
Сорокин муж, известный СорокИн,
За сплетнями слетав от одного к другому
Был весел в честь чиих-то именин.
Боярышник густой колюч и непролазен,
Иголки все сплелись в один колючий стог,
Лев посмотрел, но хоть и был отважен,
Но штурмовать куста, конечно бы, не смог.
Он лег покорно брюхом на лужайку,
И, морду положив на травку, произнес:
«Послушай, вещая всезнайка,
Лежу перед тобой, аки смердящий пес.
Одно я знать хочу — кто из зверей сильнее,
Ловчей, красивее, чем я.
Еще одно — и кто из них вкуснее,
Чтоб пищей был достойной для меня.
За это все, клянусь своей пещерой,
В которой я родился и вскормлен,
В обиду я тебя не дам, и всякой мерой
Тебе способствовать берусь со всех сторон.
И сам не посягну на беззащитный домик,
В котором ты живешь уже года».
«Вот это да, вот сукин сын, вот комик» —
Веселый СорокИн прострекотал с гнезда.
Но умная и хитрая сорока,
Что знала все ужимки льва,
Ему почтительно ответила: «Высокий
Гость! Зверей всех голова!
Приветствую тебя, пришедшего с вопросом,
И рада гостю помощь оказать».
Сама же повернувшись, ткнула носом
Болтливых сорочат, заставив их молчать.
И продолжала: «Грусть твоя известна,
Скоты и есть скоты всегда.
Ты ими будто сыт, но пресно
На вкус их мясо — просто ерунда.
Другое дело — мясо зверя,
Ну, скажем, окорок медведя, например.
Передавали мне, и я охотно верю —
Нежнее мяса нет. А сам он, этот зверь,
Силен и храбр, могуч и беспощаден,
Его еще никто не побеждал.
И в схватке с ним никто не сладил.
Он всех как мух давил и пожирал».
Услышав это, лев хлестнул хвостом о землю,
Встряхнул лохматой головой,
И молвил: «С радостию внемлю,
Всезнайка пестрая, совет разумный твой».
«Но!» — прервала его советчица сорока, —
«Их медвежиный царь живет в горах.
Иди туда здесь не теряя срока,
Там снег еще не стаял на хребтах.
И он лежит там, в каменной берлоге,
Вот-вот он встанет и пойдет.
Передавали мне — он слаб на задни ноги,
Всю зиму пролежал ленивый обормот.
Да передай сестре — кедровке с эхом —
Оно везде ее найдет —
Пусть с кумом-вороном пришлет птенцам орехов,
Что в мох попрятала, а то пожрет их крот.
Ну, будь здоров, и скатертью дорога!»
А СорокИн подумал: «Чтоб ты сдох!»
Но вслух прибавил: «Ради бога
Не простудитесь там, не провалитесь в мох».
Он не любил повадку этой кошки
По островам в черемухах блуждать,
Из гнезд сорочьих деток-крошек
Для завтрака когтями выгребать.
И лев ушел столь властною походкой,
Как будто пред собой медведя увидал,
Хвост кверху, брови ровно щетка,
В глазах огонь, а грива — словно вал.
Лишь только лев ушел, все сразу оживились,
Сорочьей трескотни не передать,
И впечатлением от встречи с львом делились
Наперебой шесть крошек-сорочат.
А умная и хитрая сорока
Строчила мужа у гнезда,
Чтоб тот летел скорей к лесной обоке,
Где воронье слетается всегда
На падаль давнюю какого-нибудь лося,
Что вышел из лесу, гонимый лешаком.
В лесу обычно так велося —
Больному места нет в лесу глухом.
И передал бы ворону с нагорья,
Что лев наверное к гранитам забежит,
Чтоб там, в камнях, в единоборстве
С медведем-гризли силы спор решить.
И СорокИн, взлетев над лугом Качи,
Со стрекотом пустился в дальний путь,
Перед собой имея две задачи —
И к цели долететь, и в гости не свернуть.
Летел. Летел, и увидал у леса:
Кружится воронье, пружиня на крыле.
Чего они кружат? Какого беса?
Вниз не спускаются к питающей земле?
И тут его глазам всеведущим, сорочьим,
Все стало ясно ровно день.
В кустах, темнеющих перед грядущей ночью,
Чия-то кралася загадочная тень.
И СорокИн определил мгновенно —
То шла гиена лося поминать,
Ее обычай — непременно
Семью воронью собою напугать.
Но все уладилось, и шум угомонился.
Гиена принялась за тризну, как шакал,
А скоро их пришло так много. С счету сбился
Летящий СорокИн, он плохо цифры знал.
И сколько сверху воронов спустилось
Он тоже не считал, как ровно и ворон,
Он видел лишь, как все здесь суетилось,
Стараясь подойти поближе со сторон.
Вцепиться где-нибудь, хоть как-нибудь отведать
Из общей тризны у леска,
Не говоря о том, что сытно пообедать,
Такая мысль для многих далека.
Сел СорокИн на ель, над самой головою
Красавца лося, павшего в рогах,
И начал наблюдать, как старый ворон с боем,
Отняв кишку, присел ее клевать.
Вот этот — от камней, он про себя подумал,
И, приглядевшися, вполне установил,
Что ворон точно тот, к тому же был и кумом,
И у сорок детей из года в год крестил.
"Привет умнейшему из птиц, — он молвил с ели, -
с приятным ужином, достопочтенный кум.
Вы обещались к нам еще на той неделе,
Да время не нашлось у вас средь ваших дум.
Имею дело к вам от нашего семейства«.-
И СорокИн тут начал стрекотать,
Как лев пришел, что говорил, какое зверство
Намерен он в камнях создать.
И надобно, чтоб гризли знал в берлоге
О той затее бешеного льва,
И чтобы ведали все каменные боги
Что вздумала кошачья голова.
«Приятно, рад, — ответил ворон гостю, -
Я здесь не задержусь, и глазом не моргнув
Глаз выклюю, да от ноги часть кости
С собой возьму и тронусь в дальний путь».
Сказал, и сделал все, как полагалось.
Но попрощаться с кумом не пришлось:
Был занят клюв, ведь впопыхах досталась
Тяжелая та с мясом лосья кость.
На крылья опершись всей силою могучей,
Он все же оторвался от земли,
И скрывшись за леском, понеся к черным тучам,
Туда, где камни видятся вдали.
А СорокИн прострекотал снова с ели,
Желая поддразнить гиенный молодняк —
«А чтоб вы все, как кошки, околели,
Ублюдки, выродки некормленых собак».
А сам на крыльях вниз спустился
И начал ползать, будто бы хромой,
Гиены бросились к нему, он быстро изловчился,
Вспорхнул, схватил кишку, и улетел домой.
А ворон, силу взяв, уже летел высоко,
Вороньим трактом режа небеса,
Уж сопка оказалась много сбоку
И начали темнеть от сумерек леса.
Внизу блеснуло плесо Енисея,
И потянулось лентою с боков,
Сошлися горы в щеки, зачернели
Вдали вершины каменных Столбов.
А там, на западе, заря огнем горела,
Тянулась красным шарфом по хребтам,
И тучки легкие своим эфирным телом
Как фимиам курились к небесам.
И высоту с подтиху набирая,
Упорно резал воздух черный вран,
Из клюва кость, как клад, не выпуская
Летел он в свой гранитный горный стан.
Вот и Базаиха прижалась к Енисею,
Ее блестящий серп здесь Вышку огибал,
А там, на юг ушли за нею
Моря лесистых гор и скал.
Близенько пролетел над гривою гранитов,
Что Лалетину делят с Моховой,
И через падь, совсем во тьме сокрытую,
Взял курс к большим гранитам по прямой.
Махал, махал могучими крылами,
И, наконец, внизу поплыл хребёт,
В котором ворон меж камнями
Держал гнездо из года в год.
Уже почти стемнело над горами,
Когда он сел на камень близь гнезда.
Заря совсем потухла за хребтами,
Блеснула в небе первая звезда,
За ней другие звезды заблестели,
Рассыпавшись в бездонной вышине,
Внизу в ручье свои вечерни трели
Пел черный дрозд проснувшейся весне.
И было тихо так близь стен немых гранитов,
Стучало сердце в воронову грудь.
Кость положив на каменные плиты,
Он задержался здесь, чтоб отдохнуть.
Потом опять поднялся в воздух черный
И кинулся к гнезду среди камней,
Сдержал себя крылом упорным
И шумом разбудил своих детей.
Вручил подруге дар с долины,
О чем-то с ней немного поболтал,
И снова полетел во тьму пучинную
Куда-то к силуэтам черных скал.
И над тайгою сонной, но не спящей,
Раздался ворона ночной звенящий зов,
Необычайный клич и с эхом уходящим
Он разбудил тайгу от набегавших снов.
Защелкал филин, в каменном развале
Перекликнулись совы на хребте,
Они еще ни разу не слыхали
Воронов клекот в ночи тьме.
«Недоброе!» — промолвила кедровка,
Снялась с пушистой пихты от гнезда,
И с криком вдоль ручья над разреженной бровкой
Пошла наперерез вороньего следа.
Ее заслышав, в небо взвился ворон,
Дал через голову спиралью разворот,
И вдоль хребта с заснувшим бором
Поплыл назад, замедлив быстрый ход.
И, налету приветствуя друг друга,
В ночной тиши, над черным морем скал,
Кедровке ворон вещий в ряде кругов
Сороки просьбу всю пересказал.
Опять взмыл вверх и снова развернулся,
И с высоты, что выше всех камней,
Планируя на крыльях, вновь вернулся
К семье скучающей, встревоженной своей.
В ту не спалося ночь семье кедровок горных,
Был разговор один о гризли и о льве,
О том, что на лету поведал ворон черный,
Что надо бы слетать к волшебнице-сове.
Ей рассказать, она ночная птица,
Сейчас же пусть слетает, что ей в сне,
Чтоб гризли знал, пока начнет зариться,
Что может ждать его среди камней.
Или дождать утра, спросить совета сойки,
А может быть и кукшу разыскать,
И им сказать, и всею тройкой
Медведю весть всем хором передать.
Пока судили да рядили,
Уже птенцы свои в гнезде открыли рты,
Забрезжил свет, и споры прекратились.
Пора на поиски за пищей. Суеты
Не перечесть у этой пестрой пары,
Куда-куда не надо им слетать,
И на земле в оттаявших амбарах
Горбатых шишек кучки разыскать.
Что с осени запрятано, забыто,
Вот и изволь летай и вспоминай.
Садись ищи, все сверху шито-крыто,
И длинным носом все перерывай.
А все же надо выполнить заданье.
Сорока, ворон — все они свои.
К тому ж медведь — безвредное созданье
И здесь в тайге — хозяин он земли.
И пестрый КедровИн, тем дорожа знакомством,
Подруге приказал, чтоб скоро не ждала,
Насущный хлеб искала для потомства.
Вспорхнул и полетел со свистом, как стрела.
И долго б не пришлось до логова медведя
Ему лететь, к тому ж дорогу знал,
Да налету он вспомнил про соседа,
Что в том же ручейке повыше гнездовал.
По счастью, сам сосед был у гнезда с женою,
И что-то хлопотал внизу среди корней.
Узнав соседа, он взлетел в густую хвою
И разговор полился, как ручей.
Услышала его тоже соседка-сойка
У пихты на суку, да так и замерла.
Во мху слепушка-землеройка
Одним ушком кой-что разобрала.
Особенно ж засуетилась белка,
Она никак поверить не могла,
Что гризли попадется в переделку,
Что вообще — серьезные дела.
А по ручью, с почти неслышным эхом,
Тот разговор внимала кабарга,
Ведь лишь ее чудесно чутким ухом
Все знает, ведает дремучая тайга.
И вот пока делились кедровИны
Известно стало всем, буквально, по тайге,
По всем камням, от низа до вершины,
От лиственниц-гигантов до слеги,
Что ветер раскачав, метнул на землю в гневе.
Шумели в муравьищах муравьи,
И быстрые ручьи в звенящем перепеве
Тайге канючили сочувствия свои.
А бурундук залез уже в пещеру,
Где гризли зимовать привык.
Сейчас он стал доверчив через меру,
Забыв медвежьи пакости на миг,
Как гризли капывал его с норы его же,
Как кошка мышью балуясь порой.
И крикнул со стены: «Не слушайте! Не гоже,
Там разговор у всех пустой
О льве каком-то, грозном господине.
Я знаю льва, — дохлятина, не зверь.
Он пальцем не задел ни зверя, ни скотины.
Не верь хозяин, никому не верь.
А впрочем — муравьев спроси. Они все знают
И правду скажут только муравьи.
Лежи и отдыхай, пусть там себе болтают
Да брешут глупости свои!»
Лишь только он сказал, у входа появился
Гонец носатый, пестрый КедровИн.
Он сразу же в бурундука вцепился
И начал гнать его: " Ах, жулик! Сукин сын!
Еще тебя, брехло, здесь не хватало,
Не по вранью достался тебе хвост.
Как мать-земля тебя носить не перестала!
Пошел отсюда вон! Дурак! Прохвост!"
И выгнал прочь бурундука с берлоги,
Сел на приступочек, и все пересказал
О чем в долине Пухоногий
Под трескотню сорокину мечтал.
«Пора честь знать и выйти на свободу,
Покушать корешков ургуя по хребтам,
Яичек муравьев попробовать в угоду
Своим за зиму слипшимся кишкам.
Набраться сил и поджидать бродягу
Тут, где-нибудь по мхам и по камням.
Пусть попадется в передрягу
На радость каменным богам».
«Спасибо, КедровИн! — Медведь ответил птице, —
Да, да! Пора и впрямь вставать.
Изнежился я здесь в своей теплице,
Так можно и весну, пожалуй, прозевать».
И гризли встал, и из пещеры вышел,
И медленно побрел по склону к ручейку,
И первое, что он в тайге услышал —
Кукушки грустное, зовущее «Ку-ку».
«А, прилетела, чудная певунья,
Ну, значит, вся оттаяла тайга.
Скажи, прекрасная вещунья, —
Сегодня речь твоя особо дорога, —
Сколь жить осталось мне на свете?
Наемся ль пучек я в закат весенних дней?
В исходе солнечного лета
Мой вкус узнает ли малиновый елей?
Мой слух услышит ли по осени жужжанье
Там, где-то наверху пчелиного дупла?
Мой нос учует ли медовое дыханье,
Что наносила за лето пчела?»
И вновь ответила ему кукушка «Ку-ку»,
И долго куковала над хребтом.
А гризли слушал все, ему-то было в руку
Для схватки будущей со львом.
Сияло солнце, пели песни птицы,
Чуть слышный ветерок вершины пихт качал,
И ручеек болтливый небылицы
Со слов кедровьих звонко напевал.
А гризли шел искать ургуй мохнатый,
Что в солнцепеках выгнала весна,
Ургуй целительный и силою богатый
Для медведей проснувшихся со сна.
А в это время все лесные боги —
Дуван, Пыхтун, Сосулька и Лешак —
Собрались на камнях у гризлиной берлоги
И порешили дело так:
Что надо де помочь медведю чем попало
И отстоять топтыгу ото льва,
А средств в тайге к тому немало,
Перечислять — так вспухнет голова.
И резолюция собранья появилась,
Заслушав, мол, поговорив, пришли:
В кратчайший срок, чтоб худо не случилось,
Чтоб всем, чем можно гризли помогли.
Особенно же надобно бы было
О том же попросить и каменных богов,
Чтобы они хребет обгородили
Каменьями от всяких этих львов.
Сама тайга прислала кабарожку,
Чтоб та послушала, что духи порешат.
И ей медведя стало жаль немножко
Хоть он до озорства большой был плут и хват.
Участвовало в разговоре Эхо,
И быстро разнесло все по тайге,
К тому ж болтун — ручей, не знающий помехи,
Всегда соперником был в этом кабарге.
И Кап-волдырь слыхал, сидевши на березе,
И так надулся, чтоб все осознать,
Аж проняли его, беднягу дегтя слезы
И лопнула кора, а все не мог понять.
На Колокольнях ворон над Калтатом
Тревогу услыхав, звонил в набат.
И эхо, мощным перекатом,
Тот звон умножило во много-много крат.
Ручьи в логах вскипели белой пеной,
И так стремительно сбегали под уклон,
Образовав живые стены
Непроходимые никак со всех сторон.
Дуван с хребтов погнал такие бури,
И рвал с корнями сосны и листвяг,
И завалив тайгу такой наделал дури,
Что удивился сам Лешак.
Пыхтун с Тянигузом хребты поставил круче,
Да так их приподнял над Енисей-рекой,
Что камни уперлися кой-где в тучи
Своей холодной головой.
Сосулька у камней, по их щелям коварным,
Образовал толстенный лед,
Такой каток неблагодарный —
Кто ступит, тот и упадет.
Лешак запутал все тропинки,
И сеткой переплел среди дерев,
Чтобы не мог свободно без запинки
По ним пробраться к скалам лев.
А дед-гранит каменья порассыпал,
И так составил их, ну как заплот.
В одном же месте камень выпал
И здесь образовался, вроде, вход.
А на верху таких ворот гранитных
Зажат был куб, да не один, а два,
И если здесь пойдет лев ненасытный —
Куб упадет и здесь — могила льва.
Навстречу льву был послан дятел Желна,
Чтоб слету выдолбить пришельцу правый глаз.
Одним смотреть не так привычно,
Особенно когда везде не ход, а лаз.
Так вся тайга готовилася к встрече.
Гостям незваным кто же рад?
А о таком как лев не может быть и речи,
Он ненавистен всем подряд.
А в это время лев уже в поход сбирался,
Нетерпеливо новолунья ждал,
Чтоб ночь темней была, и мыслью наслаждался,
Как он взойдет туда на каменный развал.
От косоглазого зайчонка — лопоуха
Он точно все узнал — куда и как идти,
И представлял себе, как у камней там глухо,
Нет настоящего тореного пути.
Чтоб время шло скорей — он долго когти правил,
Об тут же близь пещеры ствол каких то верб,
Кругом поход и льва гиен ночных хор славил,
А он лежал, смотрел на тусклый лунный серп,
Который вот растает в небе ночи,
И ночь уйдет безвылазно во тьму.
В тот раз и выступить, на то ведь кошкам очи
Дал бог. Он — кошка, значит — и ему.
Желанный час настал. По нашей если эре —
Сто восемь тысяч лет и восемнадцать дней
Тому назад. Уж все забыли звери,
И только у сорок я сам узнал о ней.
И в двадцать два часа и в сорок три минуты
Поднялся с ложа лев и прокричал: «В поход!»
Зайчишка впереди петлял совсем разутый.
Так легче. Сзади — полк гиен, шестьсот или семьсот.
Сначала шли ручьем до Енисея,
Потом вверх по нему, пока знакомый путь.
Бежали, прыгали и силы не жалели,
Чтобы скорей пойти и время обмануть.
Базаиху прошли, где лес понавалило,
Как по мосту, и дальше вскачь идут.
Вот Лалетинский лог, и на мысу могила
Надгробная плита и надпись: «Прах мой тут».
«Кто он, безвестный?» — Молвил лев державно.
Но имени его никто, увы, не знал.
Лев постоял над ней и вымолвил: «Забавно.
Кто здесь свою погибель предсказал?»
И повелел гиенному начальству
Немедленно могилу ту разрыть.
Ведь надо ж положить конец нахальству —
Себя при жизни хоронить!
И вмиг гиены налетели
На холм неведомый и ну его копать.
Они ужасно захотели
Костей неведомых остатки поглодать.
И полчаса прошло, никак не больше,
Все было сделано, холм весь был перерыт
На глубине шестиметровой толщи
Никто, нигде никем не был открыт.
И только лишь один Гиёныш благовонный
Нашел какой то кубик из кости
Блестящий, крепкий, как точеный
Его решили льву преподнести.
Об этом всем смиренно доложили,
И льву Гиёнышем был лично кубик сдан,
Что выкопан был им на дне могилы,
А надпись, мол, сплошной обман.
Страсть рассердился лев, как кошка,
Схватил Гиёныша и вырвал ему бок,
А кубик в пасть вложил как крошку,
Стереть желая зубом в порошок.
Погорячился, стиснул крепко зубы,
И верхний левый клык на нет сломал.
От боли волком взвыл, развесив губы,
И кубик изо рта на землю сам упал.
Потом вскочил озлобленный владыка,
И вверх по Лалетиной сам повел гиен.
Покруче стали горы, вроде пики,
А кое-где так даже вроде стен.
И стали отставать гиены понемножку,
А лев все шел, все полз, карабкался, скакал.
Куда тягаться легкостию с кошкой,
Особенно в лесу у скал.
Прошли версты четыре, растерялись,
Тайга, трущоба, мох аж до колен,
И в свите льва всего остались
Зайчишка-лопоух, да пары три гиен.
А тут вдруг впереди рассоха оказалась.
Куда идти — никто того не знал.
Вожатый заявил: «Скажи, какая жалость,
Что здесь я никогда доселе не бывал».
«Как не бывал? — Лев крикнул на зайчонка, -
Я покажу тебе, как путь в камнях не знать!»
У бедного заерзала печенка,
Он в мох забился и лежал.
Но только лев к нему собрался
Поближе подойти, чтоб проучить без слов,
Зайчишка вмиг со мха поднялся,
Скакнул в чащу и был таков.
Лишь повернулся лев, уж и гиен не стало,
Им показалося, что тут и их черед,
И усомняшеся не мало
Подались все в обратный ход.
Ужасно зуб болел, еще больней досада.
Остался царь один, один, как перст,
Среди ему чужого камнеграда.
И сколько впереди еще подобных верст.
И он прилег на брюхо в мох глубокий,
Больной, покинутый, но гордый еще царь.
И вспомнил он в низу далеком
То, от чего ушел, и стало ему жаль
Всего того, что там внизу, в долине,
Каких он только яств там не едал,
И за кусочек свежей мамонтины
Он кажется полжизни бы отдал.
И он глаза закрыл от мысли сладкой.
Когда же их открыл — во мраке увидал —
Горела пара глаз, и вкрадчивой повадкой
С горы спускался кто-то на привал.
«Приветствую тебя, высокий повелитель,
Добро пожаловать к нам в горный уголок,
Как кошачьей семьи, к тому ж как местный житель,
Тебя приветствовать спустилась я в ложок».
«Какая женщина!» — подумал лев невольно.
И громко вымолвил: «Прекраснейшая рысь,
Я зуб сломал, поверите ль как больно,
А здесь так холодно, сквозняк, такая высь».
«Лекарство есть прекрасное от зуба, -
Так рысь промолвила, — Оно у нас одно.
Как что, так в муравьище суньте губы
И зуб пройдет, простуда заодно».
Лев очарован был той спутницей нежданной.
«Вот муравьище». «Стоит ли того,
Уж зуб прошел, и как на то не странно,
Прошел и насморк, все из ничего!
Я просто нервничал сегодня через меру
Здесь в этой чаще гор, лесов
Я потерял немного в счастье веру,
Но вновь теперь нашел в тебе без слов».
И лев упал пред рысью на колени —
«Не уходи» — он жалобно молил, -
«И будь моей, ведь я во всей вселенной
Так страстно никого еще не полюбил.
Как только взоры встретилися наши
Я об одном подумал — ты моя!
Я не найду тебя милей и краше.
Дай лапку левую и мне скажи — твоя».
А рысь подумала, какой он рыцарь видный,
Ну что, коль у него обломан один клык.
Он для меня супруг завидный...
И голова вскружилась рысья вдруг.
Она глазами в небо посмотрела,
И нежно так, как только рысь смогла,
Ко льву стеснительно подсела
И лапку левую пришельцу подала.
«Вот-вот, вот так, — лев молвил рыси страстно, -
Как видно я сюда совсем не даром шел,
И даже зуб сломал не понапрасну,
Какой я клад себе в горах нашел!»
Так лев и позабыл о гризлевой пещере.
Как только звезды спать легли,
Наш лев и рысь, влюбленные без меры,
С ковровых мхов снялися и пошли.
Сначала логом шли, потом втянулись в гору,
И только через час влюбленного пути,
Когда на небе разлилась Аврора,
Они смогли в хребет взойти.
И перед ними в крутяке еловом
Громадой высилась чудовище-стена,
И лес густой своим покровом
Ее прикрыл с низов. Она
Нигде никак, увы, не проходима.
Как крепость стала здесь в хребтах,
Пошли повдоль. Ведь все ж необходимо
За нею побывать в неведомых камнях.
Шли долго или мало? Время знает.
И вот, близь у стены, густой, густой лесок.
А меж стволов просвет рысь в стенке замечает.
«Идем скорей за мной, мой царственный дружок,
Я вход нашла, сейчас пройдем мы стену,
Я вовсе этих мест не узнаю.
Здесь боги сделали такую перемену.
А ты спать хочешь? Баиньки-баю».
И впрямь в стене просвет. Громадные ворота,
Как сказка место. Красота.
Но льву пришла смертельная охота
Прилечь, уснуть, — сказалась суета.
«Ну, ляг, мой друг, и положи головку
Мне на коленочки, и подремли, как кот,
Я помурлыкаю, прикрою гривой бровки.
В любви я не найду к тебе забот».
И лев уснул, усталый и счастливый.
В нем воина убил Амура яд.
Прикрытый, как шинелью своей гривой,
Он так проспал бы год подряд.
Да сцену ту с осины видел желна,
Слетал и доложил богам он: «Так и так,
Там, мол, в воротах лев и с ним его любовна,
Так как — глаз выклевать? Иль их бери Лешак?»
Заволновались все лесные боги
И помчались любовь ту посмотреть.
Откуда у Сосульки взялись ноги.
Расселись на воротах посидеть.
Ну, а Сосулька, так развесил губы,
Что превратился в воду лед,
И вся махина каменного куба
Оттаявши, сползла в просвет ворот.
И словно памятник, лежит там куб и ныне,
Кто только, кто его там не видал.
Свидетелей того давно уж нет в помине,
И сам я от сорок случайно все узнал.
Вот вам и кубик тот со дна могилы,
Его разгрызть не надо и мечтать,
В нем чары спрятаны могучей, страшной силы.
Как целится Амур — попробуй устоять!
Так лучше не чуди, глотай любви заразу,
Не пробуй кубика, иди садись под куб,
И не страшись, когда он сразу
Накроет поцелуй сомкнутых губ.
Куб — памятник любви. Ее исток — ворота.
Под ними первый взгляд, ланит стыдливых кровь.
В них вход и выход, жизни позолота,
В них светит солнце, бьет любовь.
25.09.44
Владелец →
Предоставлено →
Собрание →
Павлов Андрей Сергеевич
Павлов Андрей Сергеевич
А.Л.Яворский. Столбы. Поэма