Жизнь розовая
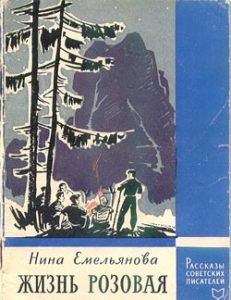
Каждое утро Леонид Иванович выходил из бревенчатого домика на гребень сопки, глубоко дышал свежим смолистым воздухом и вглядывался сквозь зеленые ветви сосен в близкие и дальние хребты, выступавшие перед ним. Над покрытыми лесом сопками словно плыли каменные паруса, поднимались крепости и стены — великолепные, часто причудливые выходы сиенита, слава и гордость замечательного красноярского заповедника Столбы. Они так и назывались: Крепость, Стенка, Дикий, Развалы. И Леонид Иванович встречал их по утрам, как старых друзей.
Леонид Иванович вырос в Красноярске и с детства любил Столбы. Он знал все нанесенные на карту заповедника «камни» по названию и расположению их в тайге, обошел и те, которые не были известны, помнил свои первые походы, трудные лазы, помнил встречи солнца на вершинах Первого и Второго, ночные костры и девичьи улыбки. От этих походов на Столбы Леонид Иванович приобрел на всю жизнь умение располагаться, как дома, в тайге и то чувство товарищества, которое укрепляется в суровых и опасных обстоятельствах, когда приходится на большой высоте «страховать» товарища, рискуя собственной жизнью.
Только немногие знали заповедник так, как Леонид Иванович. И одним из них, несомненно, был Михаил Васильевич Егоров, Михвас, как его называли, много лет прослуживший наблюдателем-метеорологом в заповеднике. Михваса Леонид Иванович знал, когда еще только начинал ходить на Столбы.
В те годы Михвас всегда в одно и то же время — в час ночи и в семь утра — выходил на площадку около дома, где стояли приборы метеорологической станции: термометры, барометр, ведро для осадков, и записывал температуру, влажность воздуха, направление ветра. И каждое утро, какая бы ни была погода, даже самая неприятная, он поводил головой направо и налево, восхищенно внюхиваясь в запахи тайги, сосен, и произносил громко, с приподнятой интонацией:
— Жизнь розовая!
Знавшие Михваса едва ли задумывались, выражают ли эти слова его действительное отношение к жизни. Слова эти стали уже привычными для всех, как и его прозвание, составленное из двух начальных слогов имени и отчества, как встречи с ним у вечерних костров в заповеднике.
Услышав его голос, на порог избы выбирался худощавый загорелый мальчишка, Леонид, который каждое такое «Жизнь розовая!» встречал как знак к началу нового дня, полного радостным ожиданием чего-то необычного, и всегда отвечал звонко, будто желая доброго утра:
— Правильно!
И бежал, сопровождая Михваса и на площадку к приборам, и часто в его обходах заповедника.
С годами уже юноша с темным пушком над губой, а потом и инженер, Леонид Иванович в свободное время приходил в избушку на Столбах. Щурясь на солнце, он поднимался за Михвасом на гребень сопки и, держа руку козырьком над глазами, долго смотрел на зеленые таежные дали. Потом садился на каменный выступ и говорил, похлопывая рукой по крепкой открытой груди:
— Сколько смотрю, и все не надоедает! Больно хорошо. Погляди, Михвас, на эти сосны, как они, словно обнявшись, спускаются по склону к ручью... Все сидел бы и смотрел.
Но тут же, что-то вспомнив, Леонид Иванович шел в избушку и возвращался с фотографическим аппаратом в руках. Михвас смотрел, как молодой инженер открывает объектив, и сам заглядывал в круглое, отливающее синевой стекло. Михвасу оно казалось таинственным: в руках недавнего Леньки этот аппарат превосходно воспроизводил прелесть окружавшей его природы. Да и люди на снимках выходили прекрасно. Все знали фотографию, где Михвас стоял, как живой, на вершине Четвертого столба, откинув голову, словно произнося и здесь свое «Жизнь розовая!» и худощавый его профиль резко выделялся на бездонном и действительно розовом небе.
— Голубая оптика! — с уважением, говорил Михвас, больше относя это уважение к фотоаппарату, чем к самому Леониду Ивановичу.
— Да, оптика хорошая, — отвечал Леонид.
Потом они с Михвасом хватали ведро и чайник и, держа их далеко от себя, чтобы не запачкать копотью брюки, сбегали к ручью, прыгая, как мальчишки, по крутой тропинке. Они умывались, стоя в ручье, обливая холодной ключевой водой грудь и спину, отдуваясь и звучно шлепая себя мокрыми ладонями. Красные, с ожившей молодой кожей, перекинув через плечо рубашки, они поднимались вверх по тропинке, неся ведро и чайник, наполненные водой, и громко кричали:
— О-го-го-го-го!
И где-то далеко в камнях отдавалось эхо. Особенно запомнился Леониду Ивановичу месяц, проведенный на Столбах, перед его отъездом в Кузнецкий бассейн. Чудесный стоял май с холодными ночами и свежей, легкой зеленью. Небо синело над высокими соснами. По утрам, пока Михвас варил кашу, Леонид приводил в порядок место на нарах в избе, где они оба спали. Михвас помешивал кашу обструганной палочкой, смахивал со стола нападавшие за ночь хвоинки и резал хлеб, посматривая на ветку сосны, где над самым столом уже сидела сойка и, склонив головку, наблюдала за действиями человека. Стоило Михвасу отойти от стола, как сойка, блестя сине-зеленым оперением, слетала на стол и, схватив кусок хлеба, улетала. Это тоже восхищало Михваса.
— Ишь ты! — восклицал он. — Ну, где ты, Леня, найдешь еще такое место, где так дружно жили бы человек и птица?
— Я не назвал бы это дружбой, — сказал Леонид. — Налицо факт разбоя, произведенный нахальной птицей.
— Ну, где тут разбой? — возразил Михвас. — Тут на самом деле «жизнь розовая!»
По мнению многих знавших его людей, Михвас был ленивым человеком, который предпочел трудностям жизни городского служащего «розовую жизнь» на Столбах. Михваса называли «неисправимым оптимистом», впрочем, никто не знал, нужно ли в советских условиях исправлять оптимистов и как это делается. Одного московского писателя, побывавшего на Столбах, так восхитил весь прочный облик Михваса, сухощавый строй его тела, постоянная бодрость духа, щедрое внимание к людям; и восклицание «Жизнь розовая!», что он сразу же в уме стал подбирать ему место в романе. Правда, жалея, что Михвас туда «не влезает», писатель отложил набросанный с него тип для следующей книги.
С годами Михвас почти не менялся и, когда говорил о людях, которые заболели или умерли, держался так, будто с ним самим не может случиться ничего, даже отдаленно похожего на болезнь или смерть. Леонид, замечавший это, иногда думал, что, может быть, и в самом деле с Михвасом никогда не случится ничего страшного в жизни.
И все-таки оно случилось. Во время войны Михвас, офицер запаса, одним из первых красноярцев попал на фронт, был убит в боях за Москву и похоронен где-то на высоком берегу Истры.
На его месте в заповеднике уже дважды сменялись люди.
Леонид Иванович все это время работал на шахтах в Кузбассе и почти пятнадцать лет не видал Столбов. Нынешним летом ему предстояло обследовать Ирша-Бородинский разрез, на полпути между Красноярском и Канском, и побывать в Партизанском, районе Красноярского края на месторождении каменного угля. Трудная по сложившейся большой работе зима утомила его, и он решил провести часть отпуска в красноярском заповеднике. Правда, он никак не мог представить себе жизни на Столбах без Михваса, но все же поехал.
И, однако, когда Леонид Иванович подошел к избушке, построенной его товарищами, братьями Нелидовыми, куда он постоянно ходил прежде, и большой, плечистый, в распахнутой на груди рубашке, с густыми, тронутыми сединой волосами над покрасневшим лбом, сбросил на пороге туго набитый рюкзак и осмотрелся, он понял, что заповедник и без Михваса сохраняет свои традиции. Все тот же стол был низко вкопан перед избой, и такой же закопченный таган висел над кострищем, сохранилось и старое «клеймо», вырезанное Сашей Нелидовым над дверью избушки.
«Живут, приходят...» — подумал он и, усмехнувшись, добавил вслух характерное для Михваса выражение «Жизнь розовая!»
Леонид Иванович скоро убедился, что он не мог выбрать лучшего места для отдыха. С каждым днем ему хотелось ходить дальше, дышать глубже, и он так и делал: повелительно и победно входил в его сердце всегда любимый им, но по-новому зашумевший край.
Вместе с ним в старой Нелидовке жил теперь не очень молодой, но по-молодому быстрый, темноволосый человек лет тридцати пяти с неожиданно светлыми голубыми глазами, с заросшими темной щетиной щеками и подбородком, прежде тоже инженер, а теперь писатель Павел Николаевич. Леонид Иванович хорошо знал его, больше того, давал ему рекомендацию в партию; первую свою практику молодой инженер проходил у него на шахте несколько лет назад, был настойчив и упорен. Весной они встретились на совещании угольщиков в Новосибирске и решили вместе побывать на Столбах. Павел вырос в деревне степного Алтая и в знаменитом, заповеднике никогда не бывал.
По утрам Павел Николаевич выскакивал на порог в одних трусах и тапочках, останавливался и удивленно восклицал, глядя на освещенные солнцем сосны и дымчато-лиловые силуэты дальних столбов на темной зелени хвойного леса:
— А ведь здорово! А, Леонид Иванович? Здорово?
Схватив топор, Леонид Иванович с увлечением колол отпиленный вчера чурбак, и Павел Николаевич любовался, как с треском раскалывается смолистая древесина, разваливается ровными поленьями, а на спине товарища под розовой кожей ходят лопатки, и мускулы рук его красивы и округлы.
— Дайте-ка кружечку водицы! — говорил писатель, беря со стола, врытого в землю, эма­лированную кружку.
— Ну-ну!.. — отнимал кружку Леонид Иванович. — Иди к ручью, сбрасывай годы...
Сбрасывать годы Павлу Николаевичу не было никакой надобности: он был моложе Леонида Ивановича больше чем на десять лет, худощав и строен. Но он послушно бежал к ручью, плескался там и возвращался, раскачиваясь и приглаживая мокрые темные волосы.
— Да, это вещь! — говорил он. — Ей-богу, чувствуешь себя только что родившимся, молодым, готовым на любую трудную работу!
Леониду Ивановичу нравился товарищ: что-то в нем напоминало ему себя самого в молодости. Павел тоже учился в Томском индустриальном институте, только позднее Леонида Ивановича; закончив институт, он работал в Анжерке и там написал свою первую небольшую повесть о шахтерах. Этой весной Павел Николаевич ездил в Москву по вызову Союза писателей: новая, вторая его книга — роман о том же хорошо известном ему руднике — была написана смело, свежо; ему предложили лишь доработать ее для издания в Москве. По совету Леонида Ивановича, он решил засесть в заповеднике на месяц в какой-нибудь избушке, жить там, думать и писать. Дома, в Анжерке, у него остались жена — женился он рано — и двое ребят. Бывает, рассказывал Павел, что ей не нравится написанное им; тогда она краснеет, смущается, но сказать то, что думает, ей трудно: жаль огорчить мужа. Ребята же гораздо решительней, по словам Павла, смотрят на работу отца, и, когда у него не ладится, они с полной уверенностью, что могут помочь ему, говорят: «Ты дай-ка нам, мы тебе все исправим, и рукопись твою напечатают». И Павел хохотал, вспоминая своих мальчишек.
По сравнению с молодой еще семьей Павла, собственная семья Леонида Ивановича сложилась уже давно: жена работала врачом на шахте, дети выросли и начали самостоятельную жизнь. Его же все теснее окружала семья молодых инженеров, работавших под его руководством. Павел и был одним из них.
Леонид Иванович иногда думал: как это инженер, хороший специалист мог оставить свою работу? Еще тогда, руководя первыми шагами Павла, Леонид Иванович — старший требовательный товарищ — угадывал в нем талантливого инженера. Давая ему рекомендацию, он видел его в будущем руководителем большого коллектива, командиром производства. Новая профессия Павла теперь заставляла Леонида Ивановича как-то по-иному смотреть на него и по-иному судить о некоторых как будто вновь появившихся чертах его характера. Инженеру-коммунисту он бы не простил склонности Павла говорить о себе и о своем деле так много, а писателю почему-то прощал. Быть писателем казалось ему делом совершенно особенным, таким, на какое не мог быть способен сам Леонид Иванович. Черт его знает, может быть, писателю нужны какие-то более острые ощущения в жизни? Может быть, говоря о себе, Павел представляет себя действующим лицом романа?
Леонид Иванович замечал, что товарищ почти никогда не спрашивает его о работе и жизни, но считал это естественным: работу инженера-угольщика Павел и сам знает не хуже. О чем же ему и спрашивать? Павел был так полон планами, так горячо говорил о темах, которые следует поднимать именно теперь, о встречах с интересными ему людьми! Даже когда Леонид Иванович начинал рассказывать о чем-нибудь, Павел легко прерывал его.
— Знаешь, Леонид Иванович, — говорил он, сидя где-нибудь на вершине Первого или Четвертого, — мне кажется, что я, как писатель, могу вдесятеро больше сделать, чем если бы остался только инженером. Я знаю людей, и наших инженеров и шахтеров, запасся впечатлениями и материалом на двадцать лет. Хочется писать, много писать. Что ты об этом думаешь, Леонид Иванович?
Глядя на дымчатое море тайги, окружавшее их, на высокое нежное небо, Леонид Иванович слушал товарища и, расширяя крупные ноздри красивого с горбинкой носа, дышал всей грудью: он испытывал настоящее счастье от возвращения в родные места, чувствовал, как все его тело крепнет от густого смолистого воздуха, от ветра на вершинах знакомых камней. Он и теперь всегда носил на ремешке свою «лейку», и часто можно было видеть, как он стоит, наклонив голову к аппарату, зорко взглядывая перед собой и прикидывая яркость освещения и расстояние. Он не терпел, чтобы его отрывали в эту минуту, и, когда приходившие в заповедник девушки, любительницы сниматься, чересчур одолевали его, Леонид Иванович просто убегал от них. Однажды, поставив фотоаппарат на большой, по пояс ему, и широкий, как стол, кедровый пень, Леонид Иванович, наклонившись, следил, как освещаются солнцем вершины сосен: хотелось поймать отблеск солнца на могучих стволах. Подбежавшие девушки увидели, что Леонид Иванович почти спрятался за пнем, выглядывало только его лицо с широким лбом и умными добрыми глазами.
— Подождите нас, Леонид Иванович! — закричали они. — Вы снимаете?
— Нет, надеваю, — ответил он спокойно и совсем скрылся за пнем, смеясь в ладонь и прислушиваясь к хохоту убегающих в смущении девушек.
Сейчас Леонид Иванович вспомнил, как он, идя на Столбы, после многих лет снова увидел Енисей, его неостановимо бегущие резвые струи, зеленые острова, крутой берег Базаихи — тот образ вечнозеленой родины, который он унес с собой отсюда пятнадцать лет тому назад. Он стал на колени и зачерпнул в пригоршню воды, чтобы успокоиться.
Павлу он сказал коротко, но Павел его понял сразу:
— Когда я гляжу на Енисей, я думаю, что писателям надо писать о большом.
— Я нынче в первый раз видел Енисей. — Павел был серьезен. — Побывал на Шумихе и как будто заглянул в будущую свою книгу. Вот доработаю роман, и тогда...
Но хотя в первые дни Павел и говорил, что «завтра засядет вплотную за работу», на самом деле он все так же бродил с Леонидом Ивановичем по тайге, лишь изредка записывал в книжечку пришедшую в голову мысль. Когда Леонид Иванович спрашивал, как у него идут дела, он отвечал, что с работой у него что-то разладилось, ему не нравится уже написанное и потому трудно писать дальше. Надо заново все переделывать, множество слов совсем лишние, их непременно надо убирать. Удивительно, что раньше, дома, он не замечал ни в рукописях, ни в изданной первой книге, что вложенного в них труда было еще недостаточно.
— Это значит, что ты на время отошел в сторону от своей работы и теперь видишь ее другими глазами, — сказал Леонид Иванович.
— И старшие писатели так же говорят! — засмеялся Павел. — Так и рекомендуют: отложи рукопись на несколько месяцев, потом, взгляни и поправляй. Но я думаю, никаких рецептов в работе писателя не существует: каждый работает по-своему. Вот я приехал доработать старую книгу, а чувствую, что-то иное закипает в душе и зовет и тянет к другой, новой...
Через несколько дней Павел, уже собравшийся идти с товарищем, вдруг объявил, что никуда не пойдет сегодня. Вечером он встретил Леонида Ивановича веселым криком:
— Смотри, Леонид Иванович, целую новую главу написал вместо старой! Дельно как будто вышло.
Он радовался совсем по-детски, рассказывал, что ввел в эту главу человека, которого встретил по дороге сюда в поезде, и когда тот заговорил, все стало на место. И Леонид Иванович подумал: «До чего славный парень! И все такой же, как был», — забывая, что только недавно осуждал некоторые черты в характере Павла.
Однажды, когда они с Леонидом Ивановичем сидели у костра, Павел вдруг вскочил, словно его обожгло.
— Уголек? — спросил Леонид Иванович. — Куда угодил?
— В сердце! — буркнул Павел. — Вспомнил, как послал свой роман известному, «ведущему» писателю. Послал из уважения, а ответа все-таки ждал... Не дождался и все старался думать, что книга в руки к писателю не попала, лежит у него в передней среди многих таких же.
— Ну, чего же тут вспыхивать? — пожал плечами Леонид Иванович.
— Сейчас я представил другое, — угрюмо сказал Павел. — Развернул он мою книгу, взглянул на серенький переплетик областного нашего издательства, поморщился, открыл все-таки, полистал и... увидел весь этот мусор. Тогда отложил уже прочно. Совестно! — Павел замотал головой. — С ума сойти, так иной раз проберет ощущение своей незрелости! И ведь ты сам должен открыть это! Немного толку, если тебе скажут об этом товарищи: ты же все равно не поверишь, пока сам не убедишься. Какие у нас есть писатели! А что я? И как дойдешь до этого вопроса, тут отвечай честно: имеешь ли что за душой, или не имеешь?
Он задумался.
— Трудно писать хорошо. Чтобы открыть свои мысли людям, нужно не только доверие к читающему тебя человеку, но и ожидание его доверия к тебе. Главное же — вера в себя, писателя. А это надо еще наживать.
— То ты готов горы сдвинуть, полон мыслями, то собираешься еще «наживать» в себе писателя, — сказал Леонид Иванович. — Мечешься!
— Но ведь это во всякой работе так! Я помню, когда начинал работать на шахте, страшно помогала юношеская вера в себя. А писать-то я стал немолодым, это сказывается иногда в работе, стесняет.
— Да, вот какое оно, писательское дело! — откликнулся Леонид Иванович, думая про себя даже с удовольствием, что дело инженера проще: вот он осмотрит огромную открытую разработку угля, Ирша-Бородинский разрез, из бесед с десятками рабочих и инженеров узнает, что им мешает в работе, и, горячо вступая в жизнь рудника, сразу же начнет писать о технике разработки, об отношениях инженеров и рабочих, о руководстве. За письменным столом перед ним будет только неотложная, необходимая задача — показать, при каких условиях открытая разработка мощнейших угольных слоев будет давать промышленности гораздо больше дешевого угля. Постепенно из его записей выступит новая картина расширенных работ, и — Леонид Иванович уже знает себя! — в ней не будет упущено ничего нужного. Но, может быть, потому, что у Леонида Ивановича нет никаких способностей писать поэтически, читать обо всем, что он изобразит на этой своей картине, далеко не каждый захочет.
Те, кто сам занимается этой разработкой угля и понимает технические термины, рассыпанные по страницам, будут читать работу Леонида Ивановича с огромным интересом, будут радоваться, огорчаться, спорить с автором. Но множество людей, пожелав узнать подробнее об угольной промышленности страны, возьмут в руки роман Павла. Они увидят там живых, близких им людей, которые работают, радуются, негодуют, любят, и будут переживать с ними вместе все хорошее и дурное, что с этими людьми происходит. И постепенно перед читателем свободно и широко развернется жизнь новой угольной базы Сибири. В сущности, Павел прав: и Леонид Иванович нередко переживает ощущение недовольства собой, стараясь уловить что-то самое важное в своей работе. И в его деятельности важнее всего люди, а ими по большей части ему приходится заниматься односторонне. Работа Павла шире, и нельзя, конечно, думать, как когда-то ему: казалось, что Павел ушел на более легкую работу...
И все же нельзя согласиться с тем, что Павел так легко подчиняется каким-то настроениям, и любое событие может воодушевить или отвлечь его от работы. Гадает, пойдет у него работа или не пойдет? Говорят, труд писателей остается и после них. Но почему этот творческий труд они как-то излишне затрудняют сами? Непонятно. Рассказывает, как он возьмется за свой новый роман, и все никак не приступит. Кажется, уж нет лучшего места для раздумья и работы писателю, чем здесь.
Время для жизни на Столбах действительно было самым лучшим в году: была середина июня, когда в школах и институтах заканчивались экзамены, и молодежь каждый день приходила в заповедник. Каждый день повсюду слышались молодые голоса: по тропинке мимо избушки бежали девушки и юноши, радостно перекликаясь особым, столбовским кличем «А-о-у!», который словами переводился: «И солнце и любовь...»
Весна низвергалась в задумчивые сосновые леса, в распадки, заросшие зеленоствольным осинником, и потому казалось, что лилово-серые сиенитовые скалы на лесистых хребтах так по-весеннему прелестно и чисто рисуются на ясном голубом небе, становятся как будто невесомыми и плывут... плывут...
В заповедник посетители приходили или со стороны перевала Каштак, преодолев его почти километровый крутой подъем, или с Лалетиной речки, прямо к Дому туриста, где жил теперь наблюдатель-метеоролог Сергей Васильевич, заменивший Михваса. Туда перенесли и метеорологическую станцию. По Лалетиной подъем был более пологий и короткий, оттуда чаще шли компании людей, ранее не бывавших в заповеднике. Через Каштак спешили старожилы — страстные любители Столбов; обычно к вечеру целый поток «столбистов» стремился по тропинке мимо избушки. К этому времени бродившие днем по заповеднику Леонид Иванович и Павел уже сидели у костра, пламя обнимало черное, закопченное ведро, закипевшая вода брызгала и шипела на углях, а топот бегущих ног и звонкие голоса, казалось Павлу, вплетались в вечернюю столбовскую симфонию, будоражили сердце и заставляли ждать чего-то...
Так именно началось знакомство с Анной и Варей.
Было совсем поздно. Павел, подбросив в костер сушья, сидел за столом, а Леонид Иванович черпаком, сделанным из консервной банки, разливал из ведра суп в миски, поставленные прямо на землю, когда к костру подошли две девушки.
— Сергей Васильевич здесь? — спросила одна из них.
— Ушел к Дому туриста, — ответил Павел.
— Как же быть?.. Сейчас мы, пожалуй, одни не найдем дорогу.
— Оставайтесь с нами, — сказал Леонид Иванович, — будем ужинать. А потом мы вас проводим.
К костру наклонилось круглое девичье лицо с черными бровками, и две толстые короткие косы свесились над головой Павла. Девушка сбросила лямку рюкзака с левого плеча и не удержала: рюкзак тяжело плюхнулся на землю.
— Ой-ой-ой! Сколько вы тащили, девушка! — сказал Павел.
— А мы на неделю пришли, — ответила она, — всего набрали: картошки, морковки, луку... и мясо есть.
Голос у девушки был звучный, и особенную прелесть придавали ее речи замедленные, как бы задумчиво произносимые слова.
— А вы кто? — спросила она по-детски любопытно.
— Он инженер-угольщик, а я писатель.
— Настоящий писатель? — удивилась она.
Павел не успел ответить, как из-за плеча девушки выглянуло лицо ее подруги — лицо необыкновенное. Это было дерзкое и лукавое лицо с прищуренными глазами, с изогнутым в насмешливой улыбке ртом.
— Не видишь, что тебя разыгрывают! — бросила она, не оборачиваясь к подруге, все так же насмешливо вглядываясь в темные за догорающим пламенем фигуры.
Но рассмотреть их ей не удавалось, зато она сама была перед ними как на ладони — высокая, очень складная, в спортивных брюках и мальчиковых ботинках. Рюкзак ее был невелик.
— Ну, зачем им нас разыгрывать? — отозвалась ее подруга. — Разве писатели не такие же люди?
— Молодец, девушка! — похвалил Павел. Он поднялся и стоял, не отрывая глаз от насмешливого лица, так неожиданно возникшего перед ним. Только костер разделял их. — Должен признаться, я и правда писатель.
— А что такое вы написали?
— Да так, кое-что написал. Но лучшая книга у меня, как у каждого писателя, впереди...
— Ну, тогда... может быть, вам нужна героиня для новой книги? — Она повернула и чуть подняла голову, словно показывая — вот какая я! — и, все еще принимая в шутку его слова:
-А как называется прежняя?
— Это небольшая повесть о людях Анжерки.
— Ой, я же читала! — с ужасом воскликнула девушка с косами. — Это же интересная книга! — и прибавила с досадой: — До чего неловко вышло! Все из-за тебя, Анна.
С этого дня в наладившейся жизни товарищей произошла перемена. Раньше, если они хотели идти вместе, они шли; если же Леонид Иванович задумывал подняться на один из Столбов, а Павел отказывался, то они шли порознь, куда кому хотелось. Теперь же по утрам, когда девушки прибегали из Дома туриста и Павел собирался идти с ними на дальние Столбы, Леонид Иванович почему-то считал неудобным отставать от компании, говорил, что и сам он давно мечтал навестить и сфотографировать Манскую бабу, Дикий или Крепость. Он шел вместе со всеми, хотя испытывал немалое принуждение от того, что надо было идти по заранее выбранному другими маршруту и непременно его выполнить.
Анна была неутомима в походах, легко и ловко взбиралась по самым трудным лазам. Ее откинутая назад голова в красном платочке всегда виднелась впереди и выше товарищей: она не могла допустить, чтобы существовала вершина, на которой кто-то был, а вот она не была. Узнав о каком-нибудь старом лазе, который никто из современных «столбистов» не знал, она упрашивала Павла Николаевича непременно пойти туда завтра. И, зная, что Павел еще неопытный «столбист» и не годится в проводники, Леонид Иванович сопровождал их, отыскивал ходы и в опасных местах «страховал девушек», а нередко и самого Павла.
Но Анна никак не допускала, чтобы Леонид Иванович оберегал ее. «Пустите меня вперед», — говорила она, бледнея, и, подняв голову, шла по узенькому карнизу над пропастью, отстраняя руку Леонида Ивановича, который шел за ней следом и порывался помочь. Иногда и Варя говорила подруге, что ей неприятно смотреть, как она рискует. Анна отвечала с вызовом: «Да не бойтесь же за меня, это скучно!» Она очень часто произносила эту фразу.
«А ведь главное в ней — жажда все увидеть, почувствовать, она все хочет взять в руки, рассмотреть... Жадная на ощущения девица!» — думал с досадой Леонид Иванович, чувствуя, что в самой его мысли о жадности Анны отсутствует симпатия к ней. Да, в сущности, так оно и было,
Ему не нравилось, как она обращается с Павлом. Когда, задумавшись над чем-то, он доставал из кармана записную книжку, Анна поднимала руку, призывая к молчанию, говорила дурачась:
— Тише, товарищи, сейчас при нас у Павла Николаевича родилась глубокая мысль.
А когда Павел, так ничего и не записав, прятал книжку в карман и молча садился в отдалении, стараясь, как догадывался Леонид Иванович, не упустить мысль, мелькнувшую в его голове, она говорила легким, равнодушным тоном:
— А все-таки интересные люди — писатели.
— Чем? — спрашивал Павел.
— Все знают, уверены в себе... Как вы, например.
— Вот те на! Я как раз всегда чувствую неуверенность...
— Шутите, Павел Николаевич!
— Нет, не шучу! Вы присмотритесь: неуверенные в себе люди часто кажутся излишне самоуверенными. Принимают защитную окраску.
— А что вы все пишете? — спрашивала Анна. — Я бы хотела прочитать хоть один отрывок, записанный при мне.
— Я теперь мало записываю, — отвечал Павел, но, перелистав записную книжку, все-таки находил и показывал Анне заложенную пальцем страницу.
— А! Это когда мы поднимались на Дикий! Оттуда, правда, очень широко видно. Это будет в романе?
— Не знаю, — отвечал Павел.
— Так зачем же тогда записывать?
Леонид Иванович удивлялся, что Павел не останавливает Анну: девчонка, ничего не понимает, хотя и перешла на третий курс пединститута. Варя только окончила десятилетку, а куда серьезнее! Сам он хмурился, осуждал Анну за глупые вопросы; ему казалось, что осуждение отражается в его глазах, бровях, усмешке и Анна это замечает. И она замечала: лицо ее принимало напряженное выражение, как будто она старалась понять, в чем дело. И это на время примиряло Леонида Ивановича с ней.
Другое дело Павел: он снова совсем забросил работу и с утра до вечера бывал с девушками. Когда Леонид Иванович ворчливо говорил о том, как некоторые люди разбрасывают драгоценное время, Павел по-мальчишески задорно улыбался ему или убегал, приветственно махая рукой.
После трудных восхождений у всех поднималось настроение. Спустившись с очередного Столба, девушки смеялись, вспоминали, как Павел Николаевич со страхом преодолевал «карнизик», где никакой особенной опасности и не было, а потом, совсем не зная хода, полез по отвесной скале. Они ахали, всплескивали руками; теперь, когда уже все кончилось, им было страшно. А Леонид Иванович с удовольствием смотрел, как спокойно и приветливо развертывается перед ним тропинка, — необыкновенное удовольствие было ощущать себя легким и сильным, снова идущим по столько раз испытанной, прочной земле!
По вечерам у Павла теперь не бывало прежних душевных разговоров с Леонидом Ивановичем о том, удалась ли ему сегодня работа над очередной главой, или об услышанной хорошей фразе для диалога. При девушках Павел охотнее распространялся о дальних планах, о совершенно новом романе на темы великой стройки на Енисее, и это было тем легче, что обе — и Анна и Варя — принимали этот новый, еще не написанный роман с наивной уверенностью, что он существует не только в воображении Павла, и спрашивали, скоро ли выйдет книжка. Тогда Леонид Иванович думал, что писательская известность — это то, чему не надо поддаваться, а надо противостоять, чтобы тебя не затянуло. А Павел все же поддается, хотя и не желает в этом сознаться.
В Доме туриста теперь останавливалось так много народу, что Сергей Васильевич, большелобый, задумчивый человек, сбился с ног, всех устраивая, и приходил высыпаться в Нелидовку. Анна же и Варя совсем переселились в избушку.
Теперь компания поздно засиживалась у чуть тлеющего костерка: Леонид Иванович помешивал палочкой золу, выгребая картошку; Сергей Васильевич перебрасывал горячие картофелины из ладони в ладонь — очень уж аппетитно! Варя ставила около него туесок с маслом и расспрашивала, кто пришел сегодня в Дом туриста. А Павел, положив голову на колени Анне, смотрел в ее лицо: на Столбах у девчат это считалось обыкновенным выражением влюбленной дружбы со стороны мальчишек. Но Павел давно перерос мальчишеский возраст, поэтому Леонид Иванович его не одобрял.
— Смотри, Павел, тебе шуточки, а уедешь — девушка покой потеряет, — говорил он.
— А я не позволю ему уехать! — отвечала, смеясь, Анна; глаза ее блестели, а рука оставалась на плече Павла, и он прижимался к ней щекой.
— Много пришло народу, — сказал однажды Сергей Васильевич. — Пришли двое «стариков», замечательные ребята, сегодня уже были на Митре.
— На Митре? — спросила Анна. — А кто же их водил туда?
Сергей Васильевич тихонько свистнул.
— Они сами кого хочешь поведут! Ты бы, Анюта, взглянула на них: стройные, мускулистые, веселые!
Но Анне не надо было разъяснении.
— Павел, — отстранила она его голову, — пошли знакомиться с ребятами! И вместе полезем с ними на Митру или на Деда. А?
И оба исчезли на темной тропинке.
— Были — и нету! — восхитился Сергей Васильевич. — Писатель-то ваш как помолодел.
И, приложив сложенные ладони ко рту, крикнул, отвечая Анне и Павлу на донесшийся из леса столбовский клич: «И солнце и любовь!..» А Леонид Иванович подумал, что, пожалуй, и в самом деле у друга его сейчас весенняя, розовая жизнь: вот влюбился... И, может быть, это хорошо, а может быть, и плохо.
Когда Леонид Иванович представлял себе, что у Павла есть семья, которая его ждет и любит, он про себя называл Павла «безалаберным парнем» — и только. Существование семьи в этой истории он считал личным делом Павла, находившимся где-то там, за Столбами. Он — писатель, человек горячих, больших чувств. Что нового может открыть ему Леонид Иванович?
Лаз с новыми знакомыми на Митру действительно состоялся. Залезть туда одному нечего было и думать. Чтобы забраться на вершину этого Столба, один из товарищей подставлял плечо другому, и тот, ухватившись за небольшой «карман», вылезал на площадку и уже оттуда спускал вниз свою опояску, по которой взбирался стоящий внизу. Павел, ни разу не бывавший на Митре, опасливо покосился на крепкого, плечистого студента Лесного института, прекрасного физкультурника, прозванного «Пиратом»; с помощью Витьки, своего товарища, он вылез на площадку Митры и, стоя на краю, связывал две ременные опояски, чтобы поднять девушек.
— Не бойся, — студент мотнул Павлу головой. — Я раз на этой опояске бегемота спускал со Второго столба, ничего, выдержала... А это видишь? — И он согнул руку, показывая, как напряглись мышцы.
Девушки рассмеялись. И Анна и Варя с восхищением смотрели на прекрасную фигуру Пирата, на грудь, чуть прикрытую глубоко вырезанной майкой, на то, как прочно он уселся на краю площадки, спустив вниз одну ногу. Анна первая ухватилась за опояску и легко взобралась наверх. Пират дружески обнял ее за плечо и сказал:
— Геройская девушка!
За ней выбрались все остальные. Павел был молчалив сегодня: ему тоже пришлось воспользоваться опояской и помощью студента. Только когда Пират улегся на живот и, достав из кармана штанов баночку зеленой краски и кисть, спустил вниз с площадки руку и стал писать на отвесной гранитной стене свое имя и фамилию, Павел оживился. Он вынул из карманчика рубашки бумагу и карандаш, написал и показал Анне:
И что за страсть где ни попало
Свою фамилию писать
И тем давать прохожим право
Себя болваном называть!
Варя заглянула через плечо подруги, и обе девушки захохотали.
Но когда Анна протянула бумажку Пирату, Павел поразился совершенно искренней веселости, с которой студент читал адресованные ему стихи. Пират смеялся так чистосердечно, повторяя строки и стараясь их запомнить, что Павлу стало совестно, и он попросил студента не обижаться на него.
— Здорово у тебя получилось, — сказал наконец Пират, — перепиши мне, пожалуйста! Я не обижаюсь...
— Он инженер и писатель, — объявила Варя гордо, — а вы его на «ты»...
— Я хорошо его назвал... — миролюбиво сказал Пират. — А все-таки инженер или писатель? — Он сел на край площадки, спустил ноги и замолк, очарованный величавой шириной мира, раскинувшегося перед ним. Леонид Иванович, глядя на его свободные движения, на то, как смело он располагается на этой пронизанной свежим ветром высоте, подумал:. «А ведь он верно поставил вопрос: кто в Павле главнее?» — Ну, инженер-то я настоящий! — сказал Павел, как бы соглашаясь со студентом, что писателем он только еще будет когда-нибудь. — Вот спросите у Леонида Ивановича...
И Леонид Иванович охотно подтвердил:
— Да, инженером ты был толковым.
Они спустились с Митры, и оба студента пошли вместе со всеми в избушку. Ужин был веселый; Павел достал сберегавшуюся им заветную бутылку и, разлив коньяк по кружкам, предложил выпить за «достижение высот». Но сам он то и дело о чем-то задумывался, Анна же, как будто не замечая перемены, смеялась и шутила с Павлом и студентами.
Теперь и Пират всюду ходил с девушками и Павлом, а пришедший с ним студент нашел себе друзей в Доме туриста и редко появлялся у избушки. Леонид Иванович стал реже участвовать в дальних походах с молодежью; это сделалось как-то само собой, хотя он и продолжал уходить в тайгу один каждое утро.
По вечерам же все оставалось по-прежнему, только к песням, которые раньше пела одна Варя, прибавились новые: Пират любил украинские песни. Он садился у костра и запевал:
О-ой, пье Байда мед, горилочку...
Ему подтягивали Варя и Павел, а за ними Леонид Иванович басом и неожиданно душевно:
Та и не день, не ничку, та и не годыночку
— Ну и голос же у тебя! — сказал как-то Павел. — Бархатный. Вот не знал, что ты так поешь!
— Ну, это у меня настроение певучее, — ответил Леонид Иванович и неожиданно для себя спросил: — А ты, брат, не думал, куда это тебя заведет?
— Какое «это»?
— Ты сам знаешь, какое. А ну-ка оно тебя осилит?
— Не-ет! — Павел покачал пальцем перед своим носом. — А что я своим парням скажу? — Он помолчал, глаза его сузились, как будто он хотел рассмотреть что-то плохо различимое издали. — Но ты, Леонид Иванович, мне все-таки не очень верь... Не очень... — Перевернулся на спину и долго лежал, вглядываясь в звездное небо над верхушками сосен.
Однажды к такому вечернему костру у избушки подошел прохожий человек с красивым, чисто выбритым лицом, в свитере необыкновенной вязки и превосходных спортивных брюках, годных, пожалуй, даже для альпийских восхождений. За плечами его виднелся нарядный, с блестящими ремнями, туго набитый рюкзак.
— Привет компании! — сказал он. — Примите пришельца к вашему огоньку.
— Пожалуйста! — сказала Анна.
Он быстро взглянул на девушку и Павла, улегшегося около нее, словно уясняя себе что-то, и перевел глаза на Леонида Ивановича.
— Вы с Каштака? — спросил тот.
— Я из Тамбова, если вам это интересно и если у вас принято спрашивать биографию приезжих.
Он говорил шутливо, но тон его голоса показался Леониду Ивановичу холодным и чем-то неприятным.
— Ну, какая там биография! — махнул рукой Леонид Иванович. — Каштак — это всем здесь известный перевал через гору. И я только спросил вас, оттуда ли вы пришли в заповедник?
— А! Извините, я не понял. Я шел от города с большой компанией, но они так бежали, что я отстал. Длинный подъем, все вверх... кажется, он так и называется — Каштак. Но попал я все-таки удачно, и вы, может быть, скажете, где мне остановиться?
— Переночевать можно бы и здесь... — Леонид Иванович раздумывал. — Места на нарах хватит.
— А... цель прихода? — Пират вдруг неожиданно приподнялся и сел под сосной, где он лежал; обнаженная его грудь, освещенная пламенем костра, лаково блестела.
— Вы меня почти испугали, — сказал пришедший. — Какая же цель? Конечно, осмотреть заповедник! Знаменитые Столбы, известные всему миру.
— Пусть остается, — милостиво кивнул Пират, как истинный столбист, который никогда не откажется показать красоты заповедника новому человеку, — я его всюду потаскаю.
И снова улегся под сосной.
В этой манере Пирата говорить про стоящего перед ним человека в третьем лице было что-то пренебрежительное; Леонид Иванович хорошо это заметил.
Вячеслав Сергеевич оказался «тоже инженером» и словоохотливым человеком. Он много рассказывал о своих путешествиях: «Каждый год я совершаю туристские вылазки: в прошлом году был на Карпатах, теперь пришла очередь Енисея, в этой пятилетке он именинник! Надо же посмотреть, я ведь прекрасно фотографирую...», — хвалил сваренную Пиратом похлебку, смотрел восхищенными глазами на Анну. Но, несмотря на то, что он говорил и делал самое обычное, чего и можно было ожидать от нового, еще не сжившегося со всеми товарища, Леонид Иванович скоро встал и, пробурчав что-то себе под нос, что бывало с ним, когда он сердился, махнул рукой и сказал, что пойдет спать.
Но он долго не мог заснуть. Вячеслав Сергеевич, сославшись на утомление, попросил указать ему место ночлега. Пират привел его в избушку и широким жестом руки обвел нары, слегка притрушенные сеном. В открытую дверь проникали скупые отблески костра.
— Тут? Прекрасно! — отозвался гость и стал устраиваться с умением действительно бывалого туриста.
Потом заметил на бревенчатой стене висевшую на гвоздике старую клеенчатую тетрадку, куда посетители Столбов много лет подряд записывали свои мысли и события. Вячеслав Сергеевич достал ее и, не спрашивая разрешения у хозяев, развернул. Светя электрическим фонариком, он перелистывал страницы, читал вслух и весело смеялся. Скоро к нему присоединились девушки и Пират. В тетрадке действительно было много веселого:
«Михвас, ждем вас пить квас у нас! Делегаты с «Фермушки».
«Пришел на Столбы, побродил, написал два этюда, ожил. „Жизнь розовая“! Так ведь, Михвас?»
«Художнику почет! Несомненно, розовая. Михвас».
«Увлечен Столбами и надеждой побывать здесь еще раз вместе с Верой. Она моя любовь!» — «Празднуй 17 сентября по-старому, и баста!»
«Поймали Прошку, съевшего у Михваса полхлеба. Рассудили, что он пришел с дальних Столбов без продуктов. Михвас считает: нормальное явление. Кушай на здоровье!»
«Густая, глубокая тональность хвои, жадными глазами смотришь на нее часами с вершины „Верхопуза“. Будет ли это картина советского художника, если я напишу на фоне тайги одну Валю?» — «В основном будет! Только лучше Валю на фоне не пиши. Девчонка так себе!»
«Увы, Михвас ушел, и я в одиночестве!» — «Ты чужую строчку не занимай».
— А что это за Михвас такой? — спросил гость.
— Хороший человек! — ответил Леонид Иванович.
«Высказывания» столбовских завсегдатаев, хотя и известные ему давно, но сейчас прочитанные подряд, привели его в хорошее настроение. — Служил на Столбах метеорологом. Очень заповедник любил. Повторял постоянно: «Жизнь розовая!» Присловье у него такое было. И нас всех очень любил. Посмотрит, бывало, на мальчишку, волосы ему взъерошит и вроде как с восхищением скажет: «Растет молодой народ. Эх, и жизнь! Розовая!» И погрозит: «Только на Столбах не балуй».
— Где же этот Михвас теперь?
— Далеко, — сказал Леонид Иванович. — На войне погиб.
— Значит, и розовая жизнь кончается? — невесело улыбнулась Анна.
— Разве в этом дело? — хмуро отозвался Леонид Иванович. — Важно, что до самой смерти Михвас не хотел видеть жизнь иной.
— Д-да! Оптимист, значит, был покойник, — не очень уместно заулыбался гость. — Надо сказать, не так плохо звучит: «Жизнь розовая»! Придется воскресить это выраженьице... — И гость повторил снова: — Жизнь розовая! Розовая жизнь! Хм!
«Как быстро осваиваются такие люди и как они все хватают без спросу! Не считаются ни с чем», — подумал Леонид Иванович, уже прочно относя гостя к неприятному ему разряду таких людей.
На следующий день Вячеслав Сергеевич вытащил из своего рюкзака разнообразные консервы, сахар, крупу, хлеб и положил на окно в избушке, как новый член компании. Леонид Иванович покосился на всю эту благодать, — гость, видно, не собирался уходить — и ничего не сказал.
И Пирату и Анне хотелось, по столбовским обычаям, непременно все показать новому в заповеднике человеку; день начался с горячего обсуждения, какими лазами вести Вячеслава Сергеевича на Первый и Второй. Когда через два дня эти обязательные для новичка «общеобразовательные», как их называла Анна, походы были совершены, Пират вечером в лицо гостю высказал несколько не очень лестных замечаний по поводу его физической подготовки:
— Структура, что ли, у вас такая, что вы от камня отклеиться боитесь? Надейся на руки и ноги, держи их легко, а на иждивении съезжать не дело. Этак гольфа вашего ненадолго хватит! Ну, я вами займусь.
Это уже рекомендовало Вячеслава Сергеевича как бы с хорошей стороны: раз Пират сам собирается им заняться, значит, надеется, что лазать он будет. Гость как будто получал право оставаться в нелидовской избушке.
Леониду Ивановичу это не понравилось; он молча отошел от костра, спустился по тропинке к ручью, следя за отсветами огня на стволах сосен, и долго сидел там один. Возвращаясь, он услышал, как Павел отвечает гостю:
— ...Когда мне приходится от кого-нибудь слышать: «Не читаю советских писателей, предпочитаю им классиков», — я поневоле удивляюсь, что человек считает естественным и даже как будто гордится тем, что он остается в стороне от течения нашей жизни. Конечно, я понимаю, что ваше суждение относится не ко всем, а только к рядовым советским писателям, да еще и областным, вроде меня, например, может быть, ко мне лично...
— Но я даже не знаю вашей фамилии.
— Это ничего не значит! — мальчишески весело сказал Павел. — Я просто мог вам не понравиться! Мне случалось: скажешь иногда, что ты писатель, и вместо расположения к тебе стараются показать незаинтересованность: «Не читаю советских писателей!»
— Я немного округлил, кое-что я, конечно, читаю, но мастерству мы все-таки удивляемся только у классиков.
— Ну, удивить вас, видать, трудно! — откровенно сказал Павел. — А ведь как при классиках были средние и даже плохие писатели, так и в наше время у нас есть классики.
Достойный, серьезный тон Павла понравился Леониду Ивановичу. «Ей-богу, он вправе так говорить», — подумал он с уважением к товарищу.
Павел встал и загородил перед ним огонь.
— Но зато о своем труде наши писатели говорят гораздо больше, чем делают, — самодовольно засмеялся гость. — У нас на заводе как-то выступал один писатель, долго рассказывал о романе, который еще и не написал. И вы, наверно, говорите, что напишете и то и другое... А делаете маловато. Признайтесь, девушки, он тут наобещал вам романов?
— Да, — засмеялась Анна, — обещал! — Она заглянула в лицо Павла. — А вы, правда, не написали еще того романа, о котором нам рассказывали?
— Это похоже на предательство, Анна, — сказал Павел; и оттенка обычной шутливости не было в его голосе. — Того романа я действительно еще не написал. Но я уже хожу по его улицам, вижу его людей... Этим не надо шутить, Анна.
— Простите, Павел Николаевич, больше не буду, — отозвалась Анна, дурачась и называя Павла полным именем.
— Но он напишет, напишет. И мы все прочтем! — торжествовал Вячеслав Сергеевич, и таким тоном, словно похлопывал Павла по плечу. — Да, что ни говорите, вот у писателей действительно «розовая жизнь». Известность волнует, поднимает, из-за этого и писателями стремятся стать. Сколько у нас людей идут в писатели!
— Д-да! — Павел увидел подошедшего к костру Леонида Ивановича. — Послушай, Леонид, тут интересно! Легко вы разделываетесь с людьми, Вячеслав Сергеевич!
— Про присутствующих не говорят. Правда, Анна?
Анна кивнула. Согласилась!..
— На самом деле, скажешь про себя: инженер, — торопился сообщить о себе гость. — В порядке вещей! Никакой любознательности по отношению к инженеру. Инженеров тысячи! Вот я, например, инженер, которого ценят на производстве. Я умею работать. И, может быть, я приехал не только смотреть на красоту Енисея, а еще и на то, как мои товарищи приступают здесь к такой большой задаче. К гидростроительству имею прямое отношение. Ну и что? Как говорится у вас, писателей, прозябаю в безвестности! А ведь я на посту! Вы же оставили свою специальность. Оставили свой пост. Из-за чего же? — Что-то явно недоброжелательное было в его голосе.
— Оставил, но причины этого ничего общего не имеют с теми, о которых вы говорите...
— Везде ищите настоящую причину, — подчеркнул гость, — найдете ее и у себя: через написанный роман — успех, деньги, положение. В нашем социалистическом государстве это не противопоказано, было бы хорошо написано.
«Эге, — теперь уже с полным убеждением подумал Леонид Иванович, — мелок ты, брат, и завистлив на чужой талант».
— Разве начинают с того, — улыбнулся Павел, — что пишут непременно роман?
— А с чего же вы начали?
— Долго рассказывать, — усмехнулся Павел. — Про нас, сибиряков, ведь говорят, что мы немногословны...
«Черта с два, так он тебе и скажет!» — подумал Леонид Иванович, с неприязнью глядя на гладкое, правильное лицо гостя с синевой на подбритых щеках. О будущих планах Павел говорил с ним не раз, но о том, почему инженер оставляет свою работу и становится писателем, Павел ни ему, ни этим хорошим девушкам не говорил.
— Ну, так куда же мы идем завтра? — Анна явно соскучилась: неинтересный разговор!
— Решили же вести туриста на Деда! — ответил Пират.
— Ну что же, тогда я пошел на Дикий, — сказал Леонид Иванович, выражая этим, что он совершенно не одобряет включения Вячеслава Сергеевича в общую компанию.
Утром Леонид Иванович, взяв запас дня на три, ушел на дальние Столбы. Там было замечательно. Он ходил, дышал полной грудью, нельзя было надивиться чудесным камням, тайге, всей прелести окружающей его природы. «Какие мы счастливые люди, что с детства нам дорого все» Ой, вспомнил детство, деревню, мать в поле, себя — босого, белоголового... Спал он у костерка под Диким и однажды утром проснулся под теплым мелким дождем. Он смотрел, как на блестящих листьях осины собираются прозрачные капли, скатываются к середине листа и сливаются с острого его конца, и вдруг обрадовался воспоминанию; ему показалось, что он видит где-то далеко свою мать; бледная, усталая, она стоит у окна в избе и прислушивается к шуму дождя. «Дождь в пору!» — радостно повертывает она к сыну порозовевшее лицо.
Леонид Иванович вернулся через пять дней в жаркий, пахнущий смолою полдень. У избушки никого не было, на вбитом в стенку колышке висел новенький рюкзак гостя.
— Еще не убрался! — сказал вслух Леонид Иванович.
Он долго сидел на приступочке около избушки, неодобрительно поглядывая на рюкзак, и думал, что отпуск кончается и ему пора выезжать на угольное месторождение. При одной мысли об этом он вдруг неожиданно обрадовался, даже вскочил: руки запросили работы. Ему захотелось ехать скорее. И вдруг он увидел Варю. Она шла к избушке в спортивных своих брюках и светлой рубашечке с отвернутым воротником. Две толстые ее косы, туго заплетенные, торчали в стороны, как у маленьких девочек. Она держала в руке прутик и помахивала им, ударяя по коре деревьев, по траве.
— Леонид Иванович! — закричала она, обрадовавшись, и побежала к нему.
Леонид Иванович все собирался снять Варю: такие счастливые, светящиеся глаза были всегда у нее, так славно розовели щеки. Но сейчас она была не такая, как всегда.
Варя села напротив Леонида Ивановича, на краешек врытого в землю стола, смотрела на него и молчала. В глазах ее Леонид Иванович увидел тревожное выражение, но постарался сделать вид, что он ничего не заметил.
— Что, Варя? Хорошо, брат, сегодня? А?
— Леонид Иванович, — нерешительно взглянув, сказала она, — как мы хорошо жили, когда были все вместе!
Леонид Иванович молча встал, подошел к Варе, взял ее руку в свою, похлопал по ней ладонью.
— А разве сейчас мы не «все вместе»? — спросил он и увидел, как сердито метнулись Варины ресницы, как недоуменно сжался ее рот.
Ему всегда нравилось ее мягкое произношение слов, и замедленный голос, и ее манера по-детски называть: морковка, ножичек; но сейчас она была другая, и это все наполнило сердце инженера неожиданной заботой. Ему захотелось рассеять непонятное, но, видимо, правильное ее беспокойство. Он поднял было ее руку к губам, хотел поцеловать, но побоялся, что она поймет это не как сочувствие к ней и Анне, хорошим девушкам, которых по незнанию ими жизни мог кто-нибудь обидеть. «Еще всполошится, бедняжка!» — подумал он и опустил маленькую руку.
— Мне почему-то захотелось домой... — сказала она. — И чтобы был дождливый день, как позавчера, и сидеть за столом, и учить уроки или работать. Вы знаете, Леонид Иванович, я люблю оставаться одна в избушке, когда по крыше стучат капли дождя, и думать о дожде — добром соседе за бревенчатой стеной. И от этого хочется какого-то большого, настоящего дела, вроде как пойти работать на нашу Енисейскую плотину...
— Поэтическое вы создание, Варя, — сказал Леонид Иванович. — Но зачем вы сидели одна в избушке? Чего вам не хватало? И отчего?
— Да вот увидите «жизнь розовую», тогда узнаете! — неопределенно ответила Варя и рассказала, что сегодня Анна и Пират вместе с Павлом и гостем пошли на Второй, хотят весь его облазить, а она обещала Сергею Васильевичу пойти в Дом туриста: там ребята некультурно ведут себя, в помещении у них грязно, все разбрасывают, выпивают, это совсем никуда не годится. Придется поговорить с ними по-комсомольски и навести у них порядок. Она это умеет, Анна так и сказала ей перед уходом: «Ну, ты же вожатая, тебе и книги в руки!»
Варя ушла, а Леонид Иванович почему-то подумал: наверно, Варю обидело, что все ходят с Анной, а ее оставляют одну. А может быть, в ее настроении виноват Павел? Такими ясными глазами, так доверчиво смотрит она на него. Кто знает, что она в нем увидела? Леонид Иванович долго провожал взглядом маленькую Варину фигурку и думал, какие хорошие у нас ребята, объединяя этой мыслью с Варей и Анну, хотя отдельно про Анну так не думал.
Потом он решил пойти к Третьему, очень интересному столбу, с такими мягкими очертаниями гранитных глыб, будто их обкатывал морской прибой. Освещение было прекрасное, он сделал несколько снимков.
Леонид Иванович шел, задумавшись, по тропинке, иногда наклоняясь, чтобы сорвать гриб. Грибы некуда было класть, а бросить жалко. Уже несколько крепких подосиновиков он нес в левой руке, прижимая их к груди и роняя то один, то другой. Наконец он наклонился, чтобы сложить их около тропинки, — пойдет обратно, захватит! — и, когда выпрямлялся, неожиданно снизу вверх увидел Второй столб. Он как бы вырастал из круглых сосновых крон, и Леонид Иванович понял, что он незаметно для себя спустился в ложбину между Вторым и Четвертым. Весь великолепный профиль Столба был перед ним с надписью «Свобода» над узкой каменной террасой; еще мальчишками они лазали «ходом Свободы», и — он с тех времен знал — там надо здорово «страховать» товарища. И когда однажды они взяли с собой Олю, девочку с их двора, славную девочку с двумя косичками и серьезным милым взглядом, но страшную трусиху, боящуюся высоты, то образовали цепь, чтобы ей ничто не грозило. Оля легко прошла по этому ходу, и потом ей казалось, что она и раньше была смелой. «Только не знала этого», как она говорила. И она в самом деле стала гораздо смелее.
Великое дело — «страховка» на Столбах. Идешь с товарищем и бережешь его — это закон. Леонид Иванович начал внимательно осматривать всю стройную и, казалось, неприступную громаду Второго. С левой его стороны проходил труднейший Леушинский лаз; еще Михвас говорил, что этот лаз никто уже не знает. Когда-то Леонид Иванович поднимался им с товарищем; трудное там есть местечко, где надо обползать каменный выступ на большой высоте. Стена там казалась совершенно отвесной.
...И тут он ясно увидел Леушинский ход: узкой вертикальной расселиной, почти не изгибаясь, он шел снизу по всему Столбу и выходил к самой вершине под Орлиное гнездо. Но, что удивительно, там сейчас лезли два человека! Леонид Иванович вгляделся и внезапно узнал их: Павел и Пират поднимались по такому опасному ходу!..
— Дурак, дурак!.. — громко сказал Леонид Иванович.
Кого он ругал, он и сам не отдавал себе отчета; может быть, себя, но Леониду Ивановичу казалось, что он ругает Павла, который, видимо, неспроста решился пойти Леушинским ходом, да еще с Пиратом.
— Бог мой, да разве это возможно — лезть по такому ходу, когда лазаешь еще плохо! Тут каждый шаг связчика надо понимать, как собственный. И я дурак, дурак, надо было не оставлять их одних, идти с ними вместе.
Он хотел сейчас же бежать ко Второму, но прямой тропинки от того места, где он стоял, не было, а бежать по лесу значило потерять их из виду. Леонид Иванович остался стоять, напряженно следя за каждым шагом обоих товарищей.
Они были так высоко, что Леониду Ивановичу казались маленькими фигурками.
До выступа они лезли, надеясь каждый сам на себя, но тут под самым выступом произошла заминка, как будто они переговаривались, даже спорили, кто из них полезет первым. Первым вверх пошел Павел, но движения его, сначала точные и красивые, с подъемом становились все неувереннее. Леонид Иванович видел, что Павел совершенно не понимал этого лаза. И вдруг — Леонид Иванович обомлел — Павел, как и надо было ожидать, застрял. Не видно было, как теперь можно помочь им обоим.
Единственное, что мог сделать Леонид Иванович — это со всем напряжением мысленно приказывать Павлу держаться. И тут он увидел, что маленькие фигурки, висевшие друг над другом, разделились: Пират, путь которому загораживал Павел, двинулся в обход выступа по совершенно отвесной стене. Как Пират сумел обойти выступ, Леониду Ивановичу сейчас невозможно было представить, но он обошел, оказался над самым выступом, где с трудом удерживался Павел, и сверху бросил ему опояску.
Леонид Иванович перевел дух и тяжело повалился на влажный зеленый мох у тропинки. Сейчас он ни о чем не мог думать; было лишь великое облегчение, что у Павла под ногой надежный камень и в руке опояска надежного товарища.
...Поздно вечером, когда они с Варей, сидя у костра и дожидаясь ушедших, разговаривали о фотографии, Варя неожиданно сказала:
— Я читала книгу Павла Николаевича. Вы знаете ее?
Похоже было, что она все время думала об этом, может быть, о самом Павле, хотя Леонид Иванович не сказал ей о том, где он видел Павла с Пиратом. Сосны шумели вверху, и, когда приникало пламя костра, среди ветвей на темном небе вдруг появлялось множество звезд. Варя, не дожидаясь ответа, сказала, будто продолжала думать про себя:
— Павел Николаевич — настоящий писатель, очень умный и хороший человек. И людей он любит.
Послышались голоса на тропинке. Костер горел едва-едва, идущих не было видно в темноте.
— Я говорю вам, донна Анна, не валяйте дурака! — Леонид Иванович узнал голос гостя. — Никто же вам не поверит; я наблюдателен, с первого дня увидел ваши фигли-мигли с писателем. И ко мне вы потом стали тоже очень... очень благосклонны. Чем же объяснить сегодняшний каприз?
— Почему вы все время так говорите со мной? — спросила Анна, и голос ее задрожал. Как будто я сделала что-то очень нехорошее... Я не давала вам повода думать...
— Ну, донна Анна, я же не возражаю; все это в порядке вещей в текущей здесь у вас «жизни розовой», я ведь не хотел помешать вашему роману... — Он засмеялся. — Но все-таки из-за вас человек чуть не сорвался.
— Почему из-за меня?
— Да не юлите, девушка, на вас стоит только взглянуть и видишь... — Он понизил голос, заме­тив близко костер и избушку.
Леонид Иванович больше не слышал, о чем он говорил.
— Анна! — закричала Варя. — Как вы долго!
— Ах, Варюша, какой был день! — И Анна кинулась к подруге, обняла ее и уткнулась головой ей в плечо. Поцеловала Варю в щеку, вытерла рукой глаза, сказала: — Здравствуйте, Леонид Иванович, я так соскучилась без вас!
Леонид Иванович понял, что он и сам соскучился без Анны и рад слышать ее голос.
Из-за деревьев на свет костра выступила фигура Вячеслава Сергеевича.
— «Жизнь розовая»! — крикнул он. — Вот так штука! Ведь это же Леонид Иванович! Приветствую! Мы все время вспоминали вас. Где вы были?
Леонид Иванович со злобой промолчал: видно было, что эти слова Михваса Вячеслав Сергеевич присвоил себе так же легко, как право жить в избушке Михваса, ходить на Столбы с хорошей компанией, скверно ухаживать за Анной и по-приятельски встречать Леонида Ивановича, вовсе не замечая его враждебности.
Не дождавшись ответа и ничуть не встревожась этим, Вячеслав Сергеевич удобно уселся у костра. «Как хозяин всему, чему он никогда не может быть хозяином», — подумал Леонид Иванович с неприязнью ко всей его уверенной, самодовольной физиономии. Послышались голоса: Пират и Павел бежали по лесу, весело перекликаясь.
— Глядите-ка, Леонид Иванович пришел! — крикнул Павел. — Ура! — Настроение у него было прекрасное.
Пират сразу начал подбрасывать сучья в костер — так много, что скоро пламя стало доставать до высоких свежих ветвей большой сосны и вода в ведре мгновенно закипела.
— Для чего такой огонь? — ворчливо сказал Леонид Иванович. Он не спешил показать Павлу и Пирату, что рад им; черт их знает, зачем они полезли по Леушинскому? — Сам не знаешь, для чего такой огонь: ведь ни каши, ни супа на нем сварить невозможно. Чай заварить, и то потом не снимешь. Вон как выплескивается!
Он прекрасно понимал, что студент развел огонь вовсе не для каши или супа, но делал вид, что ему непонятны всякие там порывы, из-за которых можно сломать голову себе и товарищу.
Анна подскочила к костру и потянулась было к ведру, но Леонид Иванович отвел ее руку в сторону.
— Обожжетесь, — сказал он хмуро, — хотя вы, правда, и не велите оберегать вас.
— Оберегайте! — ласково сказала она. — Пожалуйста, оберегайте, Леонид Иванович!
Леонид Иванович с удивлением посмотрел на нее: Анна была совсем особенная сегодня. Чудеса!
Пират кинулся снимать ведро и, конечно, обжёгся, с размаху поставил ведро на землю, пролив оставшуюся воду, и, подпрыгивая, замахал правой рукой. Анна сказала с участием, которым, может быть, старалась скрыть непривычное ей настроение:
— Надо содой засыпать, а то будет болеть. Дай я тебе перевяжу.
Пират стал уверять, что с рукой его сущие пустяки, никакого особенного ожога нет и беспокоиться не о чем. Вот он сейчас сбегает за водой, это да!.. Но Анна побежала в избушку за содой, которую девушки захватили из дому, чтобы печь лепешки.
Она старательно перевязывала носовым платком руку студента.
Вячеслав Сергеевич взглянул и сказал:
— Благородная девица, не беспокойтесь! Все само заживет прекрасно!
Павел поморщился, рывком схватил стоявшее около костра пустое ведро и побежал вниз по тропинке к ручью. Варя хитро улыбнулась и сказала громко:
— Леонид Иванович, пойдемте тоже за водой.
— Ну что ж, пошли! Только не за водой!
— А по воду! Так? — засмеялась Варя и, взяв Леонида Ивановича за руку, потащила его к ручью.
— Сумасшедшая Варька! — засмеялась и Анна им вслед.
Вода в ручье тихо, но настойчиво повторяла какие-то слова. Приглядевшись, Леонид Иванович увидел на темной ее поверхности отраженную звезду. И тут же различил рядом с собой товарища: Павел, непонятный ему сейчас, стоял под большой сосной.
— Ты что же это, брат, — сказал Леонид Иванович, — в соревнования пускаешься с молодежью? Тебя одного оставлять нельзя...
— А что? — отозвался Павел.
— Я видел, как вы с Пиратом лезли сегодня по Леушинскому ходу.
— По какому ходу? — быстро спросила Варя.
— По очень опасному. Никуда это не годится, Павел. — Леонид Иванович говорил укоризненно, пробирал. — Понимаешь, чем это могло кончиться?
— Ну, со стороны это, наверно, здорово выглядело! — Тон у Павла был самый невинный.
— Это очень опасно выглядело! Мальчишество недопустимое... я тогда тебя обидел? Так не обижайся: пока-то человека узнаешь!" Я понял, что он имел в виду, и говорю: «Спасибо за науку. Может, буду еще настоящим писателем». — «Непременно будешь, отвечает, а мы книжки твои будем читать».
Вот как все получилось. А потом мы с ним сидели в Орлином гнезде, распевали песни очень хорошие. Безмерная ширина открывается оттуда! И как вспомнил я, что у меня есть еще кое-что, о чем написать необходимо, гораздо больше того, что я сумел уложить в роман... Мы с Федькой по этому поводу там и «ура» кричали. Жалели только, что Анны не было с нами: сидела, бедняга, внизу с этим пошляком.
Спустились мы к ним, она слезы смахивает: беспокоилась за нас! Обрадовалась. А потом и говорит: «Вы, ребята, больше не оставляйте меня одну». Вот каким ей телохранитель показался! А я посмотрел на Федьку, подмигнул. «Девчонка?» — спрашиваю. «Девчонка!» — отвечает он. И тут мы заорали весело: «И солнце и любовь!» — Вот, брат, на какие штуки писатели способны, учти!
Мы пошли еще и на Галю, оттуда когда-то из-за любовной истории бросилась девушка: обманул какой-то подлец. Какая же там крутизна! Слазили и в Садик, а потом двинулись домой, в избушку. И всю дорогу мы с Федькой подшучивали над Вячеславом этим, хотя он, правда, лазает неплохо, и видели, что Анна нас одобряет. Вот и все.
В темной воде ручья поблескивали звезды. Вода тихонько, по-доброму журчала.
— Так я и знал, что без Анны в этом соревновании не обошлось, — сказал Леонид Иванович.
— Ну, ну, — остановил его Павел, — при чем тут Анна? Анна — наша красавица. А вот трое рыцарей... — засмеялся Павел. — Я женат, турист этот хоть и молчит про свое семейное положение, но, я так понимаю, тоже не холост. Один Федор остается.
Павел снова засмеялся, и Леонид Иванович удивился, что смеется он весело.
— Слетели бы вниз башкой с лаза, была бы вам красавица, — хмуро сказал Леонид Иванович.
Павел смотрел в сторону, упрека Леонида Ивановича он будто и не слыхал.
— Храбрится еще, — сказал Павел мягко. — Отказывается, когда хочешь ей помочь. «Не бойтесь, говорит, за меня!» Как же не бояться? Наслушается таких туристов по нашим заповедникам! Все дни слушает...
— Не наслушается, Павел Николаевич, — тихо отозвалась Варя.
— Откуда «такие» берутся? — спросил Леонид Иванович. — Ходят, принюхиваясь, приглядываясь, ожидают, где человек сорвется.
— Но, как видишь, мы с Федором не сорвались даже с Леушинского... — сказал Павел.
По лицу его Леонид Иванович угадал, что дело-то все-таки не такое простое и не так бесследно прошла мимо Павла эта насмешливая девушка. Он почувствовал, что здесь Павел чуть было не пошел на какую-то уступку по большому человеческому счету и удержался; эта мысль прибавила еще что-то новое, хорошее Павлу, и Леонид Иванович обрадовался.
— Э-эй! — послышался от костра голос студента. — Не потонули ли вы там? Может, помочь?..
— Сейчас идем! — крикнул Леонид Иванович.
Но они еще постояли немного рядом. Потом Павел схватил ведро с водой и быстро стал подниматься по тропинке. Леонид Иванович и Варя шли за ним.
Костер горел ярко и освещал сидевших около огня Анну и студента. Вячеслав Сергеевич лежал около девушки, облокотившись на руку, но она смотрела мимо него, на горячее щедрое пламя, а Пират сидел напротив Анны и о чем-то рассказывал ей.
Увидев идущих, он повернул голову и крикнул:
— Леонид Иванович, Павел, идите к нам сюда на помощь!
— В чем дело? — Павел быстро повесил ведро на таган и уселся между Анной и студентом.
— Да вот этот гражданин, — сказал небрежно Пират, — все восклицает: «Жизнь розовая!» — зацепился за чужие слова, а где, какая жизнь, сам не видит.
— У Михваса был дальтонизм, — усмехнулся Леонид Иванович, — он все зеленое здесь и живое видел в розовом цвете. Может быть, этим и объясняется его привычка говорить: «Жизнь розовая!» Один видит так, другой этак. Но вам бы я не советовал повторять его слова.
— Почему? — спросил Вячеслав Сергеевич.
— Потому что вы их плохо понимаете... Нет, знаете, таланта понимать некоторые человеческие слова.
Анна, волнуясь, сказала:
— Вы видите в этих словах другой смысл... — Она решилась говорить. — И это пошлый смысл. Вот что вы видите.
Вячеслав Сергеевич приподнялся и посмотрел на Анну.
— Донна Анна, не валяйте дурака! — сказал он спокойно. — Меня ничем уязвить нельзя. — И щелчком отбросил в сторону упавший около него уголек.
— Варя, иди к нам! — крикнула Анна. — Где ты там?
Варя откликнулась:
— Сейчас, я чай завариваю! Подошла, села около Анны, обняла ее за плечи и спросила:
— Ты очень устала сегодня?
— Страшно, Варя, когда человек видит только твое дурное...
На следующий день Леонид Иванович уезжал из заповедника. Поздно ночью, когда все спали, он вышел из избушки, раздул костер и уселся около него. Он думал о том, как они встретились с Павлом теперь и как он сначала не все одобрял в его характере. И сейчас Леонид Иванович думал, что Павлу надо работать над собой: не слишком ли легко он подчиняется любому своему настроению? Надо уметь защищать свою работу от вторжения в нее личных переживаний, не отодвигать ее, как Павел это делает, на второй план. Не может хватить жизни на затеянную Павлом большую работу, если так необузданно разбрасываться и терять дорогое для работы время.
Но когда он захотел глубже разобраться, что же это было с Павлом и с окружающими его людьми, он подумал, что если каждый человек должен не только получать что-то от людей, но и себя отдавать им, то писатель, может быть, должен делать это щедрее, чем кто-либо другой.
От любой встречи и любого поступка остается что-то значительное для человека, и надо писателю встречаться с людьми, и нельзя ему не уносить в своем сердце радостных или горьких впечатлений жизни, текущей вокруг него. И все же Леонид Иванович, человек точный и, как казалось ему самому, уравновешенный, не мог одобрить чрезвычайной впечатлительности характера Павла, забывая, что, может быть, именно эти черты его характера и оторвали его — прекрасного инженера — от работы на шахте и привели к работе писателя.
Любя Павла, Леонид Иванович чувствовал себя ответственным за него. А помогать-то Павлу было нелегко.
Леонид Иванович долго сидел у костра, пока вершины сосен не стали резче, виднее: это значило, что приближается рассвет.
«Сегодня мне уходить отсюда! — подумал он. — Встречу-ка я восход солнца на Четвертом». Он пошел тихо по тропинке. В утренней тишине все было значительнее, чем днем: и стволы сосен, и пространство за ними, откуда вдруг неожиданно на посветлевшем небе показался прекрасный силуэт Второго столба.
Форма камня, знакомая Леониду Ивановичу до каждого выступа с написанным когда-то на нем словом «Свобода», как всегда, поразила его своей величавостью, как будто природа нарочно воздвигла этот превосходный монумент для напоминания человеку о том, какое место в современной эпохе должно занимать достижение людьми настоящей — для других и для себя — человеческой свободы.
Чем больше смотрел Леонид Иванович на каменную громаду, тем резче она выступала на светлеющем небе и приобретала новую красоту. «Вечно обновляемая природа! — подумал он. — И человек также вечно обновляется. И счастье, что это ему присуще».
Когда, вернувшись к избушке, он прощался с девушками, со студентом и Павлом, он долго держал в своих руках руку товарища.
— Ну, ты, брат, вот что, — сказал он Павлу. — Ты там кое-что обдумай, сообрази. Наверно, и в писательском деле не совсем нужно... — И он хотел сказать «суетливое», но сказал: — разбросанное искание чего-то. Это я у тебя заметил. Наверно, надо вглядываться в жизнь спокойнее, глубже, а ты все закидываешься, у тебя, видно, что-то еще не согласовалось. Впрочем, это все ты и сам знаешь, не мне говорить. У меня свой характер, а у тебя свой.
— Как же мы хорошо жили все вместе! — сказала Анна уже слышанными им однажды Вариными словами.
— И дальше живите хорошо, да не мешайте Павлу работать...
На пороге избушки появился заспанный Вячеслав Сергеевич. Он был в одних трусах, розовый, упитанный. Боясь, что он сейчас скажет что-нибудь на прощание, Леонид Иванович быстро обнял Павла, вскинул на плечи рюкзак и зашагал среди облитых солнцем сосен вверх по тропинке.
Оформление художников
О.Савостюка и Б.Успенского
1956-1958 гг.
Материал предоставил В.Деньгин
Offered →
Деньгин Владимир Аркадьевич